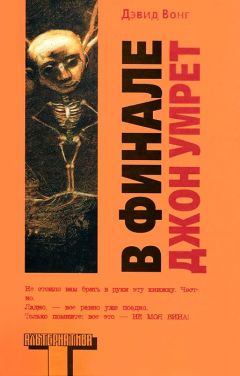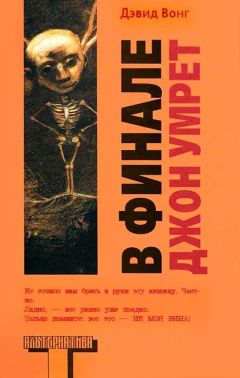Александр Любинский - Виноградники ночи
— Перестань болтать глупости!
— Согрешила я, ой, как я согрешила…
Христя закрывает глаза; медленно-медленно сползает капля на горящую щеку.
— Я знаю, что умру.
— Надо какую-нибудь машину! Господи, и никого ведь нет!
Мина чуть не плачет. Снова порывается уйти.
— Подожди… Дай сказать!
Приподымает набрякшие тяжестью веки.
— Я убила его.
— Кого?…
— Феодора… Отца ребенка.
— Так это не Залман отец?!
— Нет.
— Ты точно знаешь?
— Кому знать, как не мне… Я убила его!
— Убила… — повторяет Мина, осознавая, наконец, смысл сказанного. — Как? За что?!..
— Я пришла к нему в его кабинет…
— Что в Сергиевом подворье?
— Да… Он был злой и несло от него как из бочки… В последнее время не просыхал. Ударил меня… А потом повалил и стал сильничать. И все кричал, как все опостылело ему. Как он меня ненавидит! Совсем с ума сошел… Я не выдержала — дотянулась до подсвечника и…
— И что?!
— И… саданула по пьяной его башке… Он выпустил меня, упал. А я… убежала… А потом узнала, что он истек кровью. Один!.. Ой, отвези ты меня в Эйн-Карем! Мочи больше нет!
— Пойдем.
Опершись на Мину, Христя поднялась. Обхватила, приникла всем телом. Стали подыматься по лестнице — ступень за ступенью, и снова ступень… Христя остановилась, обернула к Мине огромные, лихорадочно горящие глаза.
— За несколько дней до этого… когда еще трезвый был, дал мне те бумаги. Сказал — спрячь, у тебя надежней будут. Никто на тебя не подумает. Сказал: никому не давай! Я отнесла их к нему домой, спрятала под матрац.
— Господи, да при чем сейчас эти бумаги?!
До боли Христя сжала Минину руку.
— Говорю тебе, их будут искать… За ними придут! Они опасные!
— Ну, хорошо, хорошо…
Я увидел их, когда они выползли на террасу, спустились по ступенькам во двор. Посетитель в вязаной кипе уже дожевал свое: откинувшись на спинку стула, не спеша пил бесплатную воду.
Они проковыляли мимо меня. Христя, охая, одной рукой держалась за низ живота, другой — обхватила плечи Мины. Я закрыл за ними ворота и снова сел на стул. Я ничем не мог им помочь.
Ночью его разбудил звук сирен. Казалось, они выли над самой головой. Потом все смолкло, и он снова провалился в беспокойный сон.
Он открыл глаза и увидел прямо перед собой высокое окно, забранное мелкой стекляшкой мозаики. В комнате была полутьма, подсвеченная всполохами то красного, то желтого цвета… Он вспомнил звук сирен. Значит, опять — комендантский час. Что ж, этого следовало ожидать.
Протянул руку, взял со стула, стоящего в изголовье кровати, часы. Была уже середина дня. Поднялся рывком, прошлепал босиком к умывальнику, повернул медный, подернутый зеленой патиной кран… Вода еле шла, но он все же сумел вымыться, вытер насухо жестким монастырским полотенцем лицо, шею и грудь. Натянул брюки, подсел к столу. Вчера он даже не притронулся ко всем этим богатствам — сразу упал на кровать. Но вот, настала очередь картошки и хлеба, и масла. И даже луковица лежала на щербатой тарелке, и он крупно нарезал ее своим перочинным ножом… По окончании пиршества взял со стола кружку, набрал из крана воды, медленно, с наслаждением выпил.
Когда же он решил прийти сюда? Ну, конечно, там, во дворе с фигуркой мадонны… Присел на край бассейна и вдруг почувствовал, что нет сил подняться… Но это уже прошло. Должно пройти!
Подошел к двери, повернул ручку… Не заперто. Выглянул в коридор. В конце его, в четко очерченном светлом квадрате — камни двора, куст акации, красная кирпичная стена… Взял с кровати потную рубаху, подошел к умывальнику и стирал, пока не сошла вся грязь, а потом повесил рубаху, еще пахнущую мылом, на спинку стула.
По коридору прошел во двор. Под акацией оказалась деревянная скамья, и он опустился на нее, полуголый — пусть смотрят, если хотят, все равно. Поднял голову. В синеве сверкал на солнце крест. Если долго смотреть, начнет кружиться голова… И снова это чувство, словно здесь и сейчас ты с этим небом — один на один.
Он стал приходить сюда каждый день. Садился за стол у окна в маленькой комнате, соседней с кабинетом Генриха. Тот оказался отменным работником — действовал четко, быстро, мгновенно оценивая ситуацию. Правда, иногда ему становилось худо — он покрывался испариной, дрожь сотрясала его. Но он не уходил домой — ложился на диван, стоявший в его комнате, накрывался с головой одеялом… Пил какие-то желтые таблетки, запивая теплой водой. Пересиливая слабость, вставал, снова садился за стол… По-видимому, он был из тех, кого лечила работа. Однажды он мельком сказал Якову, что болен малярией. Подхватил ее где-то в Южной Америке. Слава богу, в Иерусалиме хороший климат. Но с наступлением ветреной холодной зимы приступы учащаются.
В доме были еще две комнаты наверху — там жили охранники, те белобрысые, что привезли его сюда. В одной из комнат, как он понял, находилась рация. Раза два в неделю появлялась Лена, и тогда Генрих давал ей несколько листов, сверху донизу покрытых аккуратной вязью цифр — над каждым таким листом Генрих заботливо трудился по нескольку часов в день. Появлялась Лена и уходила вновь, с насмешливым безразличием, как казалось Якову, поглядывая на него.
Еще снимали квартирки — одну неподалеку, в Мошаве Яванит[16], а другую — ближе к центру, у Старого города. В той, что в Мошаве, жили Генрих с Леной, и еще водитель, исполнявший при Генрихе роль адъютанта, другая же была чем-то вроде диспетчерской или оперативного штаба — именно туда уезжали ежедневно охранники, там они вершили свои дела… Какие? Яков не знал, да и знать не хотел, потому как в такой ситуации и впрямь, чем меньше знаешь, тем лучше.
Со связью возникали постоянные проблемы: сообщения не доходили или рация вдруг ломалась, и тогда Лена кричала даже на Генриха и запиралась наверху, и все ходили на цыпочках, пока связь не восстанавливалась. Если домашние средства не помогали, Лена отправлялась за помощью в Тель-Авив, где, похоже, была своя Лена с запасной рацией. В Яффо с перерывами в несколько месяцев прибывали из Союза паломники, и тогда уже доставлялся объемистый пакет, который Генрих ожидал с нетерпеливым раздражением.
А Яков читал газеты, слушал радио, возвышавшееся у него на столе среди кипы бумаг, переводил с английского и иврита официальные документы, которые приносила все та же неугомонная Лена. Иногда нужно было вспоминать и немецкий. Поначалу было трудно, в особенности, с ивритом, который лишь начал осваивать. Но прирожденная хватка лингвиста помогала, и с каждым днем Яков продвигался вперед. От него требовалось быть в курсе любого мало мальски значимого события на пространстве от Каира до Дамаска и каждую неделю составлять для Генриха короткий, на три странички, но предельно насыщенный рапорт, где сводились воедино все факты и давался анализ ситуации. Яков работал за целый отдел, и не догадывался об этом. Он уставал, но это была приятная усталость, ведь он делал свою работу, и делал ее хорошо.
Из кусочков и обрывков информации, почерпнутой здесь и там. складывалась цельная картина, она постоянно менялась, и нужно было понять, в какую сторону она движется. Это было похоже на захватывающее кино. Или, может быть, на рисунки синоптиков с их пересекающимися линиям перепадов давления, напряжения, взаимодействующих, взаимоотталкивающих магнитный полей. Надвигалась буря, и он находился в самом центре ее. «Бэ айн а-сеара» — в зрачке бури.
Он возвращался домой, чаще пешком, и это тоже было хорошо после целого дня, проведенного за столом. По дороге покупал бутылку красного вина, лаваш, маслины и сыр… Иногда к этому добавлялась рыба, которую он жарил на своей прокопченной сковородке. Сердце перестало отчаянно биться в груди. Похоже, оно успокоилось, его усталое сердце, и только где-то ближе к утру сквозь неразличимую путаницу сна вдруг пробивались какие-то образы, кружили все настойчивей, становились все ярче! Он просыпался, вставал, допивал остатки чая из кружки, лежал, положив руку на грудь, глядя в низкий потолок, пока снова не проваливался в спасительную тьму.
Как-то раз в шабат, выйдя на пустую Агриппас, он вдруг заметил ту женщину. Она шла впереди по противоположной стороне улицы… На ней было синее шелковое платье с крупными розовыми цветами, на голове — шляпка. И сумочка была перекинута через руку — лаковая черная сумочка, выглядевшая так неуместно среди закрытых лавок, где ветер подхватывал на лету и влачил по тротуару рыночный сор. И он вдруг снова, как тогда, почувствовал жалость и нежность, и это было так неожиданно, будто зазвучала забытая мелодия, а женщина шла, и уходила все дальше, и, наверно, нужно было догнать ее!.. Скрылась за углом.
— Разрешите подсесть?
Марк поднял голову — он и не заметил, как задремал. Перед ним стоял отец Никодим все в той же черной рясе, с крестом на груди.