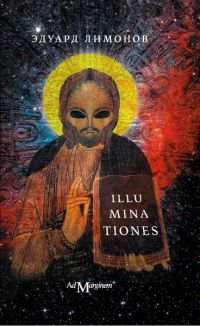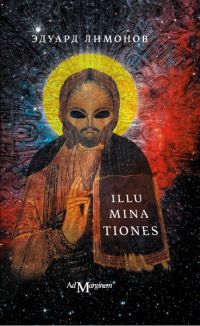Марек Хласко - Красивые, двадцатилетние
Нелегально проникающая на Запад русская литература тоже спасается смехом. В книге Терца, советского писателя, которого ждет пребывание в местах не столь отдаленных, есть такая сцена: молодой человек на допросе говорит следователю: «Оставьте глупые шутки. Я еще не осужденный, я — подсудимый». Следователь подводит его к окну, откуда открывается вид на огромную площадь, по которой идут люди. «Вон они где — подсудимые, — говорит следователь. — А ты, брат, уже не подсудимый. Ты — осужденный».
В рассказе другого советского писателя, пишущего под псевдонимом Аржак, один малый утверждает, что может «зачинать, кого хочет» — сына или дочь, по заказу; и советские ученые с полной серьезностью подвергают его всестороннему медицинскому обследованию. Откуда же берут силы смеяться граждане этой страны? Объяснение, думаю, найти несложно. Никто не в состоянии поверить в правду — в людоедство, в нечеловеческие мучения, выпавшие на долю миллионов. Возможно, смех — защитная реакция, рожденная презрением к себе; мы столько лет все это видели и ничего не смогли сделать; смотрели на страдания наших братьев и тем не менее спали по ночам и наши организмы функционировали нормально; знали, что узники северных лагерей во время работы отмораживают руки и ноги, и тем не менее часами стояли в очередях за теплыми сапогами. Мы не имеем права раздирать на себе одежды, но вправе смеяться над собственным бессилием. Однако трагической литературы нам не создать, ибо никто и никогда не поверит, что мы пережили такое. Опыт непередаваем; жителей Парижа или Милана, мечтающих о торжестве коммунизма, мы смогли бы убедить в идиотизме самой идеи, только если бы на улицах этих городов появились советские танки. Но пока такого не произошло, давайте смеяться. Наша жизнь во власти глупцов, которые могут нас уничтожить; но сами они не уверены в собственном будущем.
Профессор Ян Котт говорил когда-то своим студентам, что в книгах наших современников не найти споров о литературе и литературных героях, подобных тем, что постоянно встречаются у Достоевского, Толстого, Чехова и Горького. Действительно, в произведениях, написанных и изданных после войны, нет ни единой сцены, где бы спорили о прочитанном; впрочем, упоминания о цене костюма вы там тоже не обнаружите: люди, которые прочтут эти книги через сколько-то там лет, никогда не узнают, какова была реальная стоимость денег. Наряду с главной причиной, заставляющей писателя бежать в мир гротеска и смеха, — неверием в то, свидетелем чего ты сам был, и убежденностью, что и другие не смогут в это поверить, — есть еще одна причина, очень простая, а именно: полная неосведомленность о жизни народа, незнание условий, в которых народ живет, и неумение пользоваться фактическим материалом — даже при понимании нравственного аспекта проблемы. Если герой какой-нибудь из написанных в последнее время книг говорит: «Нам тяжело живется», тем дело и кончается, и читатель так и не узнает, сколько этому герою нужно было денег, чтобы прожить, сколько он зарабатывал и сколько бы хотел зарабатывать. Мы не узнаем, сколько стоил билет в кино, потому что писатели посещают закрытые просмотры и им не приходится часами выстаивать в очереди за билетом; мы не узнаем, сколько стоил костюм и сколько платили крестьянину за корову или свинью. Эта мелочь кажется мне весьма характерной; читая Фолкнера, Стейнбека или других современных американцев, мы примерно себе представляем, как люди одевались, что ели и в чем нуждались. А из произведений польских и русских писателей мы ничего подобного не извлечем: раньше было хорошо, а теперь ужасно; вот и все. Как в книгах сюрреалистов, так и в книгах, тайком переправляемых за железный занавес, тема денег — табу.
Сегодня наши писатели не касаются денежных проблем. В любой из книг, которые можно считать выдающимися, нет ни одной сцены, где бы шла речь о деньгах или об их ценности, даже в самой примитивной форме — например, чтобы кто-нибудь торговался, покупая одежду, или уличал обсчитавшего его официанта; мы не узнаем, сколько стоила проститутка, за сколько можно было купить подержанный или новый автомобиль и во сколько обходилась обстановка квартиры. В книгах Бальзака и Достоевского, у Чехова и у современных американских авторов герои выуживают друг у друга рубли, франки и доллары; в современной польской литературе герои посещают рестораны и расплачиваются; покупают одежду и расплачиваются, но никогда не интересуются ценой; что при этом думает тот или иной персонаж, нам тоже не сообщают. Литература — важный пропагандистский фактор — разоблачает себя очень наглядным и довольно неожиданным образом; героям одного производственного романа наплевать на героев другого производственного романа, и это, пожалуй, их единственная человеческая черта. В книгах наших современников не найти того, что мы находим хотя бы у Достоевского, который расправлялся с Тургеневым на свой лад, пародируя даже его стиль; приверженцам метода, рекомендованного и превозносимого никогда не ошибающейся партией, даже в голову не приходила такая простая вещь, как попытка замаскировать свое убожество и добиться того, чтобы их книги оставили устойчивый след.
Лишь теперь я отчетливо понимаю, что, сев писать «Кладбища», взялся не за свое дело; но мне хотелось проверить, можно ли построить рассказ исключительно на подлинных фактах. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне тридцать два года; я решил, что, если до сорока не напишу стоящей книги, займусь чем-нибудь другим. Я владею семнадцатью профессиями и в любую минуту могу пойти работать бетонщиком, шофером или сварщиком; но пока у меня еще восемь лет впереди. До сих пор я сочинил несколько десятков рассказов; из них читать могу только четыре; но ни один мне не нравится. Я люблю размышлять о том, что напишу; тогда мне все кажется о'кей. Хуже становится, когда я сажусь писать; и совсем скверно, когда перечитываю то, что опубликовал, — тут уж видишь только загубленную идею и начинаешь понимать, как бы это следовало написать. Артур Сандауэр не раз советовал мне не печатать тот или иной рассказ из прочитанных им в рукописи; думаю, он был не прав. Нельзя увидеть свои ошибки, пока рассказ лежит в ящике письменного стола; нужно его опубликовать и покраснеть за него от стыда; это — единственная возможность научиться чему-нибудь на будущее. Если таковая вообще существует.
Помню свой первый визит к Сандауэру; я пришел попросить взаймы денег. Сандауэр начал читать мне стихи Бялошевского; я сидел и ничего не понимал. Наконец Сандауэр прервал чтение.
— Вы понимаете?
— Нет, — сказал я.
— Слушайте, — сказал Сандауэр и стал читать дальше. Я слушал и по-прежнему ничегошеньки не понимал.
— Понимаете?
— Нет, — сказал я.
— Ничего?
— Абсолютно ничего.
— Слушайте, — сказал Сандауэр и опять принялся читать. Я глядел на него, но, несмотря на сверхчеловеческие усилия, не понимал, о чем речь.
— Понимаете?
— Нет, — сказал я.
— Ничего?
— Абсолютно.
— Как это может быть?
— Не знаю, — сказал я.
(Через несколько сеансов Сандауэр убедился в моем идиотизме и выгнал меня из дома. Как раз тогда он вознамерился разгромить польскую литературу, никому не давая поблажек. Насколько помню, первым Сандауэр обрушился на Адольфа Рудницкого; в рукописи статьи, которую он мне читал, приводились цитаты из прозы Адольфа, где тот не совсем правильно строил польские фразы. Меня удивило, что такого умного человека, как Сандауэр, радуют чужие огрехи; критик имеет право приходить в отчаяние, но не имеет права злорадствовать. А дело было в самый ужасный период, когда по Польше прокатилась волна антисемитизма. Рудницкий никогда не скрывал своего еврейского происхождения. Я сознательно употребляю это казенное определение, потому что не могу назвать человека, рожденного в Польше, просто «польский еврей». Позволив себе мыслить подобными категориями, я бы неизбежно пришел к выводу, что на свете не существует Соединенных Штатов и что родившиеся там люди не американцы, а евреи, португальцы и поляки. Быть может, мои рассуждения примитивны, но я признаю только простой способ мышления.)
— Ну а вы-то сами что хотите сказать? — вопросил Сандауэр.
— Не знаю, — ответил я. — Но, надеюсь, при случае вы мне объясните.
И он объяснил — позже, когда я получил Премию книгоиздателей и Сандауэр первым начал меня топтать; действительно без малейших поблажек. В то время меня уже не печатали; две мои новые книги были отвергнуты издателями, а критики-марксисты дружно объявили меня извращенцем и дегенератом.
Итак, закончив «Кладбища», я отнес рукопись в издательство. Ее не приняли. Я спросил: почему?
Мне сказали:
— Такой Польши нет.
Я спросил:
— Прикажете считать приговор окончательным?