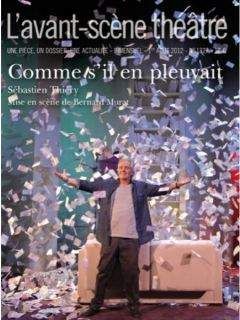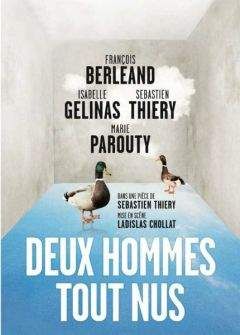Александр Иличевский - Соляра
Позже паника сменяется подавленностью, и вы уже не намеренно, а лишь рефлекторно – наподобие тика, не себе повинуясь, – вглядываетесь в отражающие поверхности, которые минует ваш скорбный путь.
Передвижение человека в городском ландшафте совершается по преимуществу по касательной к плоскостям, этот ландшафт образующим. (Касание – это мгновенная параллельность.)
Движению и взгляду параллельные поверхности сначала появляются в боковом зрении.
Жест, сопровождающий переключение внимания на предмет, возникший в боковом зрении, представляет собой составное вращательное движение туловища и головы.
Вращение также составляет суть движения собаки, безнадежно пытающейся поймать свой собственный хвост.
Человек, беспрестанно смотрящий по сторонам в надежде где-нибудь отразиться, поймать свое – уже не существующее – отражение, похож на такую собаку.
Вестибулярный клубок суммы вращений в конце концов вызывает тошнотворное вертиго.
Кто-то выразил, что вложенное отражение – это художественный прием, осуществляющий перевод действительности в интеллигибельное состояние.
Вот это-то состояние, по закону каламбура, и оказалось для меня гибельным».
Вторая записка, криминальная. …… я —…, прием…… я —…, прием.
(Слышен шорох помех, будто перелистывает атлас связи кто-то.)
…, я —…, прием. Прием.
(Наконец, вырывают из атласа лист, находят на нем меня – цок – прокалывают карандашом: начинается сеанс связи.)
– Прием. Сейчас я нахожусь в твоей мансарде (если помнишь и если счет все еще тебе доступен – последний этаж самого красивого дома на Патриарших прудах, ближайший к одной из Бронных подъезд).
Обе створки твоего окна открыты, тростниковые жалюзи подняты в свиток с рамы; сорок два кубометра – за вычетом объема кушетки, книжного шкафа, меня, столпотворения моих страхов и желе рождающего их долгого взгляда, – а также роя червонных шмелей сознания, атакующих, как нектар, эти страхи (эти строки), – так что в результате вычитания мы получаем минус-объем, не-место – как и положено всякому предсмертному созерцанию населены смеющимися облачками тополиного пуха: они плавно водят хороводы, цепляясь за углы, внезапно будоражась шумом, доносимым сквозняком от Садового кольца.
Я хватаю их ртом, различаю их вкус, вкус смеха, щекотки.
Из окна, различенные ветками, листвой, движимые смесью ветерка и воображенья, просыпаются в комнату – световой шелухой – блики, – оседают на потолке, обоях, неровно разворачиваясь своими обратными сторонами – пятнами прозрачной тени.
Я уверен – я слышу их шелест.
Московский июнь. Полдень. Примерно тридцать в тени: влажная духота, которая затянется до возможной грозы.
Я думаю о том, что́ – если она не случится.
Гроза обещает принять во внимание…
Вот уже прошло четыре года с тех пор, как не прошло и дня, чтобы я не вспомнил о тебе. Может быть, потому, что, исчезнув, ты прихватил, как скарб, и меня с собою. Ведь, по сути, ты – вор, и я должен был это помнить. Вор своей наготы, моего желания, наших общих развлечений и авантюр – источников интереса, повествования.
А также – наших общих денег – мы не успели тогда поделиться: нас подставили, был объявлен розыск, мы вспыхнули – нужно было деться. И когда решили, обжегшись, ехать в Крым – мы собирались пожить на приколе в Гурзуфе, – ты не пришел на Курский на «стрелку».
Один я не поехал.
Ты же канул бесследно – вместе со мной и со всей добычей.
Все эти четыре года я болтался по свету, как в проруби волчье семя.
Исколесил на нашем «Гольфе» всю Европу, был в Турции, гостил у Короля в Беер-Шеве, подолгу жил в Праге, Берлине, Варшаве…
Сначала с полгода, мотаясь из города в город, я искал тебя, как обманувшийся пес, попавший на собственный след, потом – уверяя себя, что без цели – забыться.
Что я видел? Не вспомнить: бойня расходящихся серий, бред абсолютных различий.
Однажды я понял – тебя нет в живых: эхо моих позывных оборвалось, когда – в прошлом году, в ноябре, я вечером вышел из гостиницы, чтобы пройтись по Карловому мосту.
Я застыл, свесившись через перила.
Меня стошнило.
Течение слизнуло, как пес, мой выкидыш – рвоту.
Я вернулся, лег не раздевшись – и три дня изучал путанку трещин на потолке, маршрут облаков, жизнь в их громадных, рушащихся городах…
Тогда я решил искать тебя среди мертвых.
Месяц спустя в Кракове, когда я просматривал «фиши» тамошнего архива судмедэкспертизы, вдруг при смене очередного кадра, как в провале, я увидел снимки твоего мертвого тела.
Графа описания диспозиции на месте: «головою на северо-запад».
Раскроенный с темечка череп, твое как бы надорванное на два облика лицо: божество лукавства.
Тогда, затопленный ужасом, в одном из них я узнал себя.
И я решился.
Блики исчезли. Пополам с духотой в легкие стали въедаться сумерки. Вместе с ними сгустилась облачность, вынуждая стрижей переходить на бреющий. Взвесь тополиного пуха осела, завалив сугробами плинтус. Гроза, видимо, решила принять меня во внимание.
…Потом, подкупив краковского архивариуса, я стал владельцем твоей записной книжки, двух своих давних писем к тебе и ключей от этой мансарды.
Из Польши я шел к тебе месяц.
Я не сел ни в самолет, ни в поезд, я пешим ходом измерил свое исступление.
Мог утонуть в Днепре – закрутило в воронку, был обобран по мелочи – взяли ксивы и куртку в Смоленске.
Я не отвлекался, я шел, как голем, шел к тебе с одной мыслью – добраться.
Сегодня утром я был кем-то узнан в переходе метро. Человек вцепился в мой локоть, полоумно вглядываясь в лицо. Отпустил наконец, внезапно смутившись.
Я не вспомнил его. Я двинулся дальше.
На Маяковке замешкался: купил телефонный жетон. Было занято.
Тогда я пошел на бульвар. Забрался, разбив локтем окно, в раздевалку купальни, вскрыл твой тайник (записная книжка) в подсобке, взял камень, порошок (дыхание), немного денег.
И сразу направился к подъезду.
Поднялся. Позвонил. Ты не открыл. Я отпер. Ты стоял за дверью.
На этот раз я не пропустил удара.
Я успел – оглушил рукояткой, сорвал рубашку и спутал ею руки; дотащил, завалил на кушетку.
Сел рядом на пол, стараясь отдышаться.
Пух лез в рот и глаза. Я отплевывался, чтоб не сглотнуть, перехватывая дыхание, глубокое после борьбы. Я спешил отдышаться…
Наконец ты очнулся, двинулся, застонал.
Он наклонился к моему лицу. Дрожащими влажными пальцами провел по щеке, постепенно усиливая нажим. Резко отнял руку и, медленно разворачивая, поднес к расширенным от кайфа зрачкам. Указательным снял с подглазья приставшую пушинку. Потом осторожно опустил руку, сначала поглаживая легко, и вдруг резко сжал горстью.
Я задохнулся болью.
Видимо, тополиный пух попал ему в дыхательное горло.
Он закашлялся, набухли артерии, лицо от удушья стемнело.
Я бросился в кухню, схватил нож, метнулся обратно.
Он погибал, я, не задумываясь, полоснул по горлу.
Мне повезло – пушинка застряла выше.
Я закинул ему голову, чтобы кровь не заливала глотку.
Теперь он мог какое-то время дышать, мог слышать.
И тогда я сказал ему э т о – и глаза его застыли.
Я лег рядом.
Я встал.
Я ушел от него.
Захлопнул дверь, спустился во двор, вышел к пруду.
Сел на лавку, закрыв руками лицо и раскачиваясь, как цадик.
И вдруг я услышал его позывные…