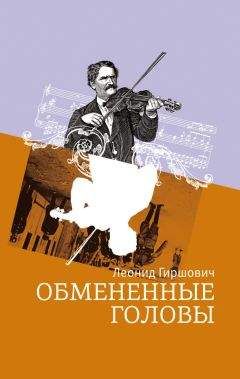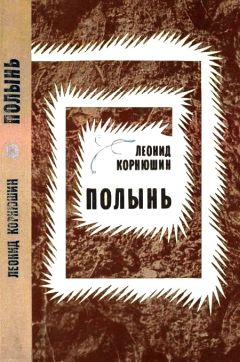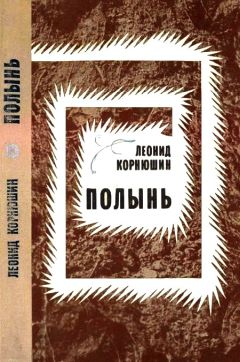Леонид Гиршович - Шаутбенахт
— Кто таков? — крикнул казак, скидывая с плеча винтовку.
— Свой, свой, браток, от семи сестер подводных спасался, — ответил я, подымаясь, и рассказал коротко обо всем, что со мной случилось.
Темно, тепло, свой русский штык тебя охраняет, под ногами камушки, идем к офицеру. Сразу за берегом степь начинается и — до самых гор. В степи огоньки далеко друг от друга — костры. У каждого сидит по офицеру и пистолеты все прочищают.
— Ваше благородие — говорит казак, подведя меня к одному из них, — вот посредь ночи с моря выплыли, говорят, с плену бежали, — и, подумав, прибавил: — Турецкого.
Офицер (ему):
— Иди, иди… — Молчит, пистолет чистит.
„Господи! Кто ж это передо мной?“ — мысль меня охватила вдруг.
И тогда он глаза свои поднял и сказал:
— Люблю я тебя, Григорий Антоныч, сто лет жизни тебе осталось, а мне и дня уже нету. Потому как ты прозаик, а я поэт. Михаил Лермонтов-Кавказский я. Прощай.
Встал, надел фуражку и пошел от костра прочь. И как больно мне, как тяжко стало, господа. Грудь, горло — так и заиграло. И прорвало меня плачем всего. И плачу во сне, и плачу…»
Когда агроном кончил, то после нескольких мгновений тишины, но мгновений емких, искусством этой паузы виртуозно владеют завсегдатаи концертных залов, ему была устроена овация. Сон понравился всем без исключения, и агроном, умиленный, согласился, что название «Садко на Каспии» самое удачное, какое может быть. Он признателен своей соседке, у которой просит прощения. Та улыбнулась — и начала:
— Господа, а теперь приготовьтесь выслушать меня. Это будет… (тихий вздох) «Просьба о прощении».
«Господи! Веки наши заперты. Мы охвачены сном. Но мрак вокруг не облагает данью, в отличие от зримого мира, наш внутренний взор. Оттого он так пронзителен в нас.
…мрак, мир, взор…
Я говорю: река, и вижу воду меж двух берегов. Чужая река, никакая. Гудзон, Рио-Гранде, даже та, что впадает в Дом Каспия. Я говорю: Нева. Весело взлетает в небо пушечное облачко. Полуденный гром. Небесный золотой кораблик, флагман тех, чьи парусиновые щеки надуты ветром. Утро еще такое раннее, что по берегам ведутся работы. Тогда я говорю: Петербург. Окаменели и парусный флот, и облачко, и рябь на воде. Все обратилось в гравюру над моим столом. Снова заклинаю я реку: Нева! В сумрачном сиянии белой ночи она другая: она несет прочь и никак не может унести отражение дворца…
…и твоего лица…
Ты у окна, смотришь, как в волнах плещутся обломки града. Я в страхе: разглядел ли ты, чем еще плещет волна?
…лица, лица…
„Анна…“ Когда ты зовешь меня, в моем сердце листва, огромные птицы ужаса, пробудившись, стынут в ветвях. Мы не зажигаем света, мир дан в силуэтах, твой у окна самый четкий. О, говори же… Какое странное видение… Одетая бедно, обвешанная баранками, выходит из немецкой, под золоченым кренделем, булочной. Опирается на палку: костяное колено.
…и я, и ты знаем — только не признаемся в этом друг другу — что по реке плывут человеческие головы…
И двух шагов не сделали, как привязался к ней парень в меховом пирожке на нос: „Дай бараночку, дай бараночку“.
…голов плывет множество — отражением краснохвостых комет. Или — сигнальных флажков под потолком карнавальной залы, полной атласных баут…
Она пыталась его приструнить, говоря, что сын у нее такой мог быть, но парень только смеялся и все свое, все свое, как будто девчонка она ему какая. „Послушай, по-хорошему говорю, отстань от меня, — а у молокососа над губой и пушок-то еле-еле, — отстань, не то как тресну по башке вот этой палкой…“ — „Да ну, — не унимается, — так вот и треснешь“. У парня кожа нечистая. Глубокая морщина вдоль лба прочно забита гвоздями. Угри. Рот ярко-красный, руки тоже — от мороза. Суставы в бородавках, обгрызанных. Розовые продолговатые ногти обведены усиком — каждый. Ладони наждачные, и женщина это почувствовала, когда он взял в них ее горящие от мороза щеки и попытался притянуть губы к губам.
…когда взгляд отыскивает в воде кого-то знакомого, я киваю на прощанье. Но сколько безвестных и тех, чья голова влачится по дну, скрывая лицо. Безымянное большинство — непрочитанные и утерянные рукописи, но тем острей и больней радость узнавания: вдруг видишь, то там, то сям мелькает знакомое, оставившее след в памяти сердца…
А мороз-то! Солнце едва пробивалось сквозь густую завесу пара над городом, зато по всему небу растеклось апокалиптическим желтком. Серые здания и желтые с белой колонадою стояли выложенные слюдой. Иней обладал свойством сгущаться в каменных складках — куда взгляд не мог падать отвесно. Это оборачивалось предательством реальности: обретением иллюзорной выпуклости, отчего город превращался в свою декорацию.
…плывет, отражаясь в моих затуманенных зрачках, совсем юная голова. Преобразившиеся в речную траву нити волос у ней удивительны: одна игла черная, другая — золотистая-золотистая, один локон смоляной, другой — льняной-льняной. Нужно ли объяснять, что это Владимир Ленский, странный поэт. Вот одна из его странностей…
У ней и у самой пальцы в черных трещинах, кожа заскорузлая, а изъеденный грибком ноготь был бел и волнист. Но когда наждак чужих ладоней на твоем лице… Хамство — вот что вывело ее из себя. „Ах ты, заразочка! Ах ты, сопляк! Ну я тебя…“ Она тяжело задышала, в глазах вспыхнули желтые искры. И с размаху ударила парня своей клюкой.
…вот одна из его странностей: „Ковром покрылися леса“. Как могут деревья покрыться ковром, когда ковер — удел аллей, а на деревьях он — убранец. А про коня: „Коня седлаю и скачу…“ А про зимнюю красавицу сказано им так: „Мороз рисует на щеках свои узоры расписные“ — бедная красавица…
И тут же парня подменило в его рост продолговатым камнем. Женщина эта, она колдунья. Она, разозлившись на шпанистого паренька, превратила его в каменную тычинку. Постучав своей деревяшкой по камню, как бы желая по звуку убедиться, хорошо ли подействовали колдовские чары, она пошла себе, а столб, лишь отвернулась она, на невидимых колесиках укатил в подворотню — за ненужностью.
…бедная красавица, я вижу и твою головку, как качается она в волнах. Ах, что за прелесть… как тебя зовут? Ах, что за прелесть эта Соня! А что голова этого помещика? Внезапная гроза в жаркий пыльный полдень, когда все выше и выше, все шире и шире, точно по огромной спиральной линии, подымался величественный гул, а после все стихло, застыло, словно в избытке счастья, и только с обмытых ветвей светлые капли медленно падали на сухие прошлогодние листья — каково-то ей там плавать в воде…
Но мало-помалу ведьма остывала. Ярость уступила место сожалениям, что, может, зря она так жестоко наказала мальчишку, в желании которого не было ничего обидного для женщины, особенно учитывая его лета: всего-то месяц прошел или два, как нерастраченная острота детских вожделений нашла поддержку у тела, наконец созревшего, чтобы их сполна воплотить. Наглость его была извинительна: разумом ребенок, детство, как ядра, тяжелое, улица воспитывает — столько извиняющих обстоятельств, что хватило б и заряда щетины с солью. „Дай баранку… дай баранку…“ Телячье тугое мычанье трогало все глубже. И зачем только она воспользовалась своей камнетворной силой. Расстроенная ведьмочка возвратилась назад, в подворотню, где стоял обращенный в камень подросток. Случайный прохожий принял бы его за тумбу, временно извлеченную из земли ввиду каких-то канализационных работ и поставленную в сторонке, — одну из тех, что попарно врыты перед арками петербургских дворов и облюбованы дворниками. Тараратумбия! Камень успел прижиться на новом месте. За короткое время дважды с ним обошлись по-свойски: кто-то неизвестный слегка очернил его у основания своей струйкою, и другой, уже явно двуногий, сморкнулся на его чуть склоненную серую макушку — и ушел, верно сразу позабыв о частичке себя, которую тут оставил, а частичка эта, совсем живая, прекаучуковейшим образом свисала…
…необыкновенная голова Марии Башкирцевой оказалась отрезана ниже груди, плывут все втроем…
И все же, как бы чудесно, совсем как к своему, к нему здесь ни отнеслись, он тихонько постанывал. „Ну что, получил свое, жеребец несчастный, вперед другим наука, вел бы себя как человек, человеком бы сохранился. Попросил бы как положено… А теперь стой“. Терзаемая своей ведьминской совестью, ведьма искала себе оправдание, рассчитывая, как водится, на помощь жертвы. Отсюда агрессивность. У осознавшего свою неправоту она объясняется…
…смутно виделся чей-то затылок, лицом — знакомым ли, незнакомым ли — забиравший по дну…
…объясняется: а) надеждой спровоцирвать свою жертву, чтобы после говорить себе: нет, все заслужено; б) желанием отхватить еще немного территории, чтоб было куда отступать; г) главное, неусмиренной амбицией — в этот момент в сердцах благодарных слушателей начинает звучать анданте из соль-мажорного бетховенского концерта. В ответ ведьма сквозь стон услышала: „Мне очень тяжело. Во мне душа еще человечья, но камень придавил мою грудь, и я задыхаюсь“. — „У тебя больше нет груди, тебе не так уж и тяжело“. — „Верь, еще немного осталось. Теперь я другой, страдания облагораживают мою душу. Молю, отпусти…“ — „Отпусти…“