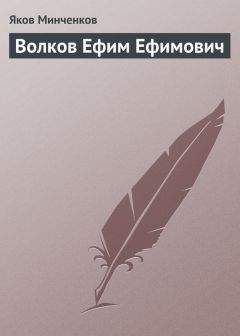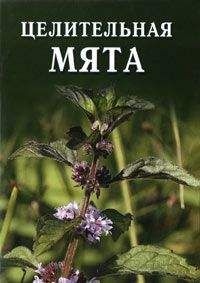Манохар Малгонкар - Излучина Ганга
Гьяну стало жутко. Большинство заключенных пели и, как ни странно, казались совсем спокойными. Можно было подумать, что они наслаждаются жизнью. Ему хотелось, но все никак не удавалось поймать взгляд Деби-даяла. Деби, как всегда, сосредоточенно разглядывал потолок. Красивый, гордый, он был похож на куклу, запеленатую в одеяло, на египетскую мумию, которая еще дышит.
Гьян ощутил странную дрожь во всем теле — неведомый прежде ужас заползал к нему через кандальные кольца, словно вши и блохи в тюрьме Калипада.
Большой Рамоши снова хлопнул в ладоши.
— Веселей, братья! — заорал он. — Веселей, друзья! Веселей, короли! Веселей, любовники собственных матерей. Пойте!
Дожди прекратились, но серая масса облаков все еще окружала судно. Огромные влажные тучи закрывали горизонт, а порывистый ветер осыпал брызгами лицо и руки. Из трюма, прорываясь сквозь скрип деревянных палуб и ленивый шум машины, доносились голоса поющих узников.
Капитан в грязном белом шлеме сидел на высоком стуле рядом с рулевым колесом и с профессиональным интересом принюхивался к чему-то. Он отложил бинокль и отряхнулся, как пес, вылезающий из воды.
— Мы бы их уже увидели, — сказал он, — если бы не такая плотная облачность. Про них говорят: «Изумрудное ожерелье, брошенное в море». Ничего себе изумрудики!
Молодой английский офицер в непромокаемом плаще передернул плечами, словно подражая капитану, и спросил:
— Когда мы должны прибыть?
— Пришвартуемся завтра в девять утра, — ответил капитан. — Ночью трудновато войти в бухту — в такой тьме это опасно.
— Я буду дьявольски счастлив, когда сдам их с рук на руки в полном комплекте и порядке, — сказал Роджерс. Один на них сегодня ночью хотел было повеситься, одеяло разорвал на лоскуты, чтобы сделать веревку.
— Хотел бы я знать, зачем парню это понадобилось? — спросил капитан без особого интереса.
— Бедняге не повезло. Отец — владелец крупной строительной компании, деван-бахадур[59]. Парень — революционер, вернее, теперь уже бывший революционер. Он получил по заслугам и никак не может с этим примириться.
— Все эти террористы живо раскисают, как только их прижмут. Как вы с ним поступили?
— Пришлось заковать ему руки. У остальных не закованы. Теперь он себя не покалечит.
Капитан нахлобучил шлем до самых бровей, поднял голову и прислушался.
— И все-таки они у вас резвые ребята, — заметил капитан, — слышите, как поют.
— Понять не могу, что им вздумалось… Как-то не по себе становится от этого пения. Лучше бы ругались или плакали. А то послушаешь, чувствуешь себя… не человеком, что ли.
— О чем они горланят?
— Больше всего о вине и о женщинах. Они…
— Похоже на матросскую песню, — прервал его капитан, — по мотиву чувствую, легко запоминается.
Громовой голос Большого Рамоши доносился словно из глубины вод:
Боло-джаванон киа-киа милат хай,
Кале папи-ке базаар?
— Это означает, — объяснил Роджерс: — «Скажите, парни мне, что ожидает нас в пучине Черных Вод?» Пучиной Черных Вод они называют тюрьму.
— А чего бы они хотели?
Мофат-ки унди, аур мофат-ки бренди.
Аур мофат-ки рунди ха шар! —
все гремел и гремел хор.
— А вот послушайте, — сказал Роджерс: — «Сколько хочешь жратвы, сколько хочешь бренди, сколько хочешь баб!»
Капитан прыснул со смеху.
— Я не прочь бы променять свою службу на такое заключение! Об этом стоит подумать… За что они сидят?
— Почти все за убийство из ревности или из-за земли. Трое или четверо за изнасилование. Один политический — революционер. Призыв к бунту, саботаж. Сжег самолет, отвинчивал накладки на рельсах и тому подобное.
— Сволочь! — воскликнул капитан с искренним возмущением. — Этого типа следовало бы повесить!
— Не знаю. Не так все просто. Эти самые террористы, как правило, из богатых семей, получили хорошее образование и горят пламенем патриотизма. Просто они сбиты с толку, вот и мыкаются всю жизнь по тюрьмам. Теперь, когда мы вот-вот влипнем в новую войну из-за полоски земли в Польше, это особенно печально. Как вы полагаете, ввяжемся мы в это дело?
Капитан пожал плечами.
— Кто может предугадать? — бесцветными глазами он пристально вглядывался в морской простор. — Как втягивается страна в войну? В прошлый раз пристрелили какого-то принца или что-то в этом роде. Никто прежде не слышал ни об этом принце, ни об этой стране. А теперь вот Польский коридор! И все-таки не могут же они забыть кошмар последней войны. Я два года отгрохал. На эсминце.
Некоторое время оба молчали. Потом капитан спросил:
— И много таких в стране?
— Террористов? Да, порядочно. Они есть повсюду. К сожалению, народ относится к ним с симпатией. Некоторых прямо-таки чтят, как героев, Бхагат-Сингха, например. Потому-то этих голубчиков так трудно выловить. Едва узнают, что мы охотимся на них, сразу уходят в подполье. Возьмите вот эту, последнюю шайку. Было известно, что их там больше тридцати. Мы — я имею в виду полицию, — по-видимому, прозевали. Они собирались в своем клубе. Там что-то вроде гимнастического зала. Наши нагрянули — застали только семерых. Остальные смылись. И вот что забавно: все семеро индусы, ни одного мусульманина. Весьма вероятно, что между ними существовал разлад… Что вы хотели сказать?
— Значит, поймали только семерых?
— Точнее, восьмерых. Потому что в тот же вечер забрали этого Деби-даяла у него дома. Остальных явно предупредили. Обычно у них есть сочувствующие даже среди начальства.
— Вы хотите сказать — в полиции?!
— Именно. Даже там. К сожалению, удрал атаман шайки, некто Шафи Усман. Впрочем, скорее всего на самом деле его зовут не так — у него по меньшей мере полдюжины имен. Вот уж поистине отвратный тип. Сколько на его счету террористических актов — не сосчитать. Да, еще, говорят, гомосексуалист.
— Вы везете всю восьмерку? — спросил капитан, заинтересовавшись. — Хотелось бы взглянуть на мерзавцев.
— Увы, нет. Здесь только один — тот, кого осудили пожизненно. Остальные отделались сроками поменьше.
— Ну что ж, в таком случае ничего не поделаешь, — пробурчал капитан, приблизив бинокль к глазам. — Давайте-ка уйдем отсюда, переберемся куда-нибудь, где поуютнее. — Он махнул рукой рулевому и слез со своего высокого капитанского стула. — Скоро передадут новости по радио, мы с вами выясним, не началась ли уже война.
— Я побуду здесь, если позволите, — сказал Роджерс. — А потом начну обход.
Капитан вразвалку, походкой старого морского волка, спустился по трапу.
Роджерс закурил сигарету. Она была влажная и мягкая. Щипала язык, как соленая морская вода. Он постоял, поглядел на неподвижную фигуру рулевого — второго или третьего помощника. Интересно, о чем он там думает? О приближающейся войне? О том, как опасны подводные лодки и мины? А может, он вообще не о войне размышляет, а о выпивке и о женщинах, как те, в трюме? Зябко кутаясь в плащ, Роджерс пошел вниз.
В дверях он чуть-чуть задержался, вспомнив о невыносимом зловонии трюма. Надзиратель Балбахадур отворил решетчатую дверь и встал около начальства, держа наготове винтовку с отомкнутым штыком, — живое воплощение собачьей преданности, подобострастия и показной смелости. Этот напыщенный, наглый человек-пес, с ужасающей серьезностью воспринявший брошенный ему кусок власти, был незаменим для поддержания дисциплины.
Увидев фигуру Роджерса в дверях, заключенные один за другим на полуслове обрывали песню. Морской волной по всему трюму пробежала тишина и скоро достигла того угла, где разместился Большой Рамоши. Волна тишины погасила и его голос.
Все они уставились на офицера, словно давая ему почувствовать весь свой страх и всю ненависть. Такая реакция на его появление была Роджерсу неприятна, как будто он погасил последний луч света в мрачном трюме. Он прошел вперед, стараясь проскользнуть между рядами заключенных. Надзиратель важно шествовал за ним по пятам.
— Вас кормили? — спросил Роджерс.
— Да, сахиб, — ответили они.
Ответы были всегда известны заранее, стандартны. От него ждали именно этого вопроса, и он знал, что они именно так ответят. Гуркх уже вымуштровал их.
— Какие-нибудь жалобы?
— Нет, сахиб.
— Вы бы легли и поспали. Завтра утром мы прибываем. И чтобы мне никаких штучек сегодня ночью. Ясно?
— Ясно, сахиб.
— Но если хотите петь, черт с вами, пойте!
— Да, сахиб.
Он хотел было сделать затяжку, но обнаружил, что сигарета погасла, тогда он швырнул сигарету в угол и увидел, как чья-то рука бережно прикрыла ее.
Но тюремщик был начеку. Со словами: «Ну, ты! И не думай!» — он наступил на эту согрешившую руку.