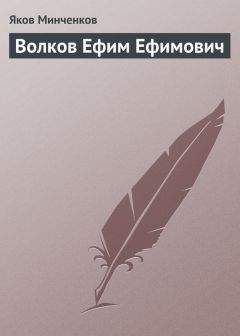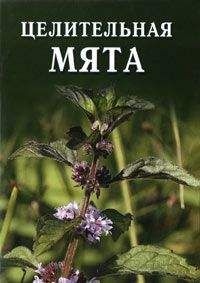Манохар Малгонкар - Излучина Ганга
Он откинулся назад и начал песню:
Скажите, юноши, зачем вы встретились
В пучине Черных Вод?
Хор заключенных вторил ему:
В пучине Черных Вод,
В пучине Черных Вод.
Приди и ты, приди и ты
В пучину Черных Вод!
Хор окреп, к нему присоединялись все новые голоса.
Они уже знали тюремную песню. Их научил Большой Рамоши — Гхасита. Он отправлялся в «ячеечную» тюрьму уже во второй раз. Теперь навсегда. Остальные никогда еще не пересекали Кала-Пани — Черную Воду.
Только он да еще те немногие из заключенных, кто был грамотен, — человек шесть, не больше — знали, что представляет собой «ячеечная» тюрьма в Порт-Блэре на Андаманских островах. Для остальных место назначения парохода-тюрьмы было скрыто.
Они собрались из разных уголков Индии, смешанное, разноязычное племя несчастных, приговоренных окружными судами и верховными судебными палатами к пожизненному заточению. Многие из них даже не ведали, что по последним постановлениям термин «пожизненное» означает всего лишь четырнадцать лет, а не тюрьму до конца дней. Да они и не заботились о будущем. Многие принадлежали к тому общественному слою, который справочники квалифицируют как «уголовные элементы». К числу таких принадлежал и Большой Рамоши — Гхасита.
Это был особый сорт людей, рожденных для преступления, для постоянного насилия. Они были прежде всего преступниками, а потом уже человеческими существами. Неспособные к раскаянию, не поддающиеся перевоспитанию и не желающие перевоспитываться — отбросы, порожденные существующим общественным порядком. Преступление для них составляло форму самого существования, предопределенную богом. Такова была даже их религия, ибо они поклонялись Ветале — покровителю преступников. Фаталисты по натуре, они даже свой арест приписывали гневу Веталы. Видно, они допустили какой-то промах в ритуале поклонения и вызвали неудовольствие божества, вот и лишились его покровительства. Конечно, это большое несчастье, но ведь бог справедлив. Выходит, иначе и быть не могло.
А теперь их везут в таинственную тюрьму, которую построили белые люди где-то за Черной Водой. Говорят, эта тюрьма — настоящий дворец, трехэтажный, с чистыми, светлыми камерами. К тому же, слышали они, через несколько месяцев каждый там становится «фери» — вольноотпущенником, имеющим право поселиться в одном из поселков на островах. Можно даже жениться, если найдешь подходящую невесту в женской тюрьме.
Всесильный Ветала отправил их в это путешествие, поэтому они были покорны, даже как будто удовлетворены и с презрением относились к тем нескольким чудакам, которые с ошеломленным видом принялись причитать, едва только пароход отчалил.
Знакомство с индийскими тюрьмами приучило их к жизни узников. И уж но всяком случае, они были уверены в том, что казематы, ожидающие их за Черной Водой, ничуть не хуже тех, которые были ими освоены прежде. Долгими месяцами чахли они в кишащих паразитами, тесных, тусклых каморках, изнемогая от грязи и вони собственных нечистот, с омерзением слушая брань тюремщиков и соседей по камере, постепенно привыкая к тому языку, которым изъясняются на стенах общественных уборных. Скованные кандалами, запуганные, избитые, отупевшие, они были бессильными жертвами тех, кто поставлен над ними. Однажды из окружных и городских тюрем их свезли всех вместе в калькуттскую тюрьму Калипада — кошмарный застенок, где огромные красноглазые крысы средь бела дня грызут узникам ноги и руки, а по полу скачут бесконечные тучи блох.
И вот теперь они плывут в открытом море, хотя и не могут его увидеть из огромной клетки трюма. С ними тюремщики, которым поручили сопровождать живой груз. Стражи важно расхаживают, как куклы-марионетки, сделанные в рост человека, и от нечего делать глумятся над своими жертвами. Висящая в воздухе жара да изнуряющий, мучительный голод — постоянные спутники заключенных. Весь скудный паек на дорогу — поджаренный рис и кусочки пальмового сахара — выдан им при отъезде. Бочка в углу трюма служит для них отхожим местом…
Какой-то бедняга зарыдал, когда пароход снимался с якоря, но Балбахадур и его люди с помощью дубинок быстро заглушили рыдания. Вот тут-то Большой Рамоши посмеялся над своими сентиментальными спутниками и затянул песню. Голос его был бодр и скрипуч («Как разбитая медная труба», — подумал Гьян), а лицо казалось больше обычных размеров человеческого лица, — словно незавершенная скульптура из дерева. Он был груб, непокорен — принц из царства преступников, избранный слуга Веталы.
Он уже отбыл полный срок на Андаманских островах, год погулял на свободе и теперь снова осужден. Как только Рамоши добрался до родной деревушки в Индии, первой его заботой было отыскать того человека, который выдал его полиции. Он свалил своего врага ударом топора посреди базарной площади при всем честном народе. По понятиям Рамоши, он совершил лишь то, чего от него ждали, и то, что он обязан был сделать в соответствии с законами преступного мира. Так повелел Ветала, и жертва была торжественно принесена. В лице и в повадках Рамоши было что-то необычное, какая-то надменность, что ли, выделяла его из толпы, да еще, конечно, рост больше шести футов и могучее сложение. Даже тюремщики отличали его от других, и не только отличали, но, кажется, и побаивались.
Он снова запел, и заключенные один за другим подхватывали песню. «О чем они молят в этой песне? — спрашивал себя Гьян. — Об избавлении от клопов и москитов или о порыве свежего морского бриза, который совсем заглушён испарениями сгрудившихся человеческих тел? Эта песня огорчила бы Аджи, если бы она могла ее услышать», — подумал Гьян. Воспоминания о бабке больно ранили его. Аджи — единственный близкий человек, которого он оставил. Одинокая старуха, брошенная на произвол судьбы в те годы, когда она имеет все права рассчитывать на заботу внука, которого вырастила.
Как живет она там, в Малом доме, в полном одиночестве ожидая внука? Он должен вернуться только в 1952 году, да и то если «льготы за хорошее поведение» распространятся на него в полной мере. Он знал, что золотые браслеты ей пришлось продать, чтобы заплатить адвокату, но рисовое поле остается, и оно должно прокормить ее. Поле да еще Малый дом…
Песня выросла, она гремела, заглушая его мысли. Он пытался держаться подальше от мерзких развлечений заключенных, от непристойных песен, плоских шуток. Как могут они распевать песни, если впереди, за Черной Водой, их ждут не вино и не женщины, а казематы «ячеечной» тюрьмы, которую, по отдаленному созвучию английских слов, арестанты прозвали «серебряной» тюрьмой? Да, их поджидала «ячеечная» тюрьма и ее комендант Патрик Маллиган, имевший репутацию «строгого, но справедливого» начальника. В конечном счете не таковы ли качества всех английских чиновников — строгость, но справедливость?
Гьяна радовало, что «серебряной» тюрьмой управляет английский комендант, ибо британская администрация вызывала у него неподдельное восхищение. Он ведь помнил, как судья-англичанин решил дело о Пиплоде в пользу Хари. Да и тем обстоятельством, что он еще жив, Гьян обязан справедливости судей. Обвинительное заключение по его делу категорически требовало смертной казни, прокурор не уставал повторять: наглое, предумышленное убийство! Но директор колледжа мистер Хэйквилл лично дал Гьяну превосходную характеристику. Тогда судья заявил: принимая во внимание молодость и прежнее безукоризненное поведение подсудимого, пожизненная изоляция будет для него справедливой мерой наказания.
Но сам Гьян помнил, что его поведение в колледже вовсе не было образцовым. Он неукоснительно носил кхаддар и присоединился к Национальному движению. Мистер Хэйквилл неоднократно предупреждал, что вынужден будет лишить Гьяна стипендии, если он ввяжется в антианглийскую деятельность, и все же, когда понадобилось, он свидетельствовал на суде в пользу Гьяна.
«Молодость ли делает мои убеждения такими нестойкими, — размышлял Гьян, — или же такова особенность индийского национального характера?» Быть может, в каком-то смысле он, Гьян, типичный средний индиец, сбитый с толку, нестойкий и слабый? Вроде тех, кто изображен в «Поездке в Индию» Форстера, например вроде Азиза или даже еще более жалкого, совершенно опустившегося парня, имя которого он забыл. Впрочем, вспомнил — его звали Рафи. Похож он на Рафи? Его, Гьяна, ненасилие не выдержало первого же серьезного испытания, а теперь и его национализм поколеблен, поскольку британские чиновники, по крайней мере те, с которыми ему пришлось столкнуться, вроде бы оказались людьми достойными. Вот бы ему быть похожим на Деби-даяла, непоколебимо отстаивающего свои убеждения! А то он, Гьян, вообще уже начал сомневаться, сможет ли Индия просуществовать без англичан. Ведь они так скрупулезно соблюдают принципы правосудия. Но что они значат, эти принципы правосудия? Разве по этим принципам Вишнудатту не полагалась смертная казнь за убийство Хари? Из угла, где он лежал, стиснутый между двумя черными как уголь и вонючими, как гнилая рыба, кули из Южной Индии, осужденными за изнасилование несовершеннолетней, Гьян вглядывался в лица своих спутников, вплотную прижавшихся к стенкам трюма или друг к другу и вытянувших прямо перед собой ноги, закованные в кандалы.