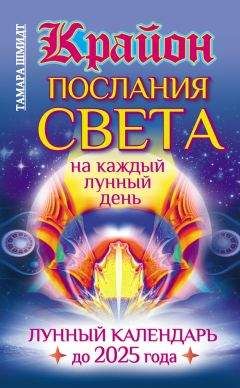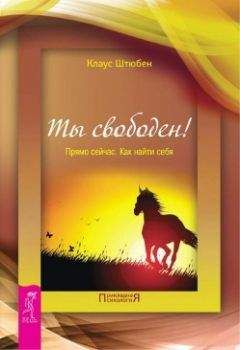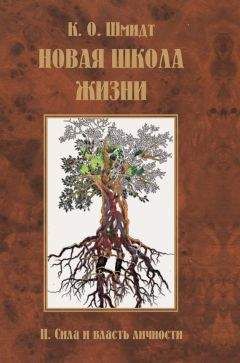Робер Андре - Дитя-зеркало
Я видел, что обе бабушки очень удивлены столь мрачным изображением их образа жизни. Они недоверчиво возражали:
— В золоте мы но купаемся, это верно, по и бедняками нас тоже не назовешь, и потом, пока у человека есть здоровье… Да у нас и потребности совсем но то, что у вас.
— Не об этом же речь, но можно хотя бы вести приличный образ жизни.
— Мы живем как порядочные люди, Луи, и никому не в тягость, — обиделась бабушка, которая, очевидно, вкладывала несколько иное содержание в слово «приличный»; и отец вздохнул с видом человека, который уже не надеется, что его поймут.
Тут Ма Люсиль, которая все это время вынимала и снова вставляла спою искусственную челюсть, что обычно свидетельствовало о полном неравнодушии к разговору, объявила, что она идет спать, и ое шумные сборы, зажигание лампы, которая все не хотела гореть и отчаянно дымила, и уход на другую половину явились маленьким антрактом в споре. Желая задобрить отца, Клара предложила ему целебный отвар для желудка, но он отказался, что было скверным предзнаменованием. В самом деле, все кончилось настоящим скандалом. Дядя, у которого вена на лбу вздулась так сильно, что, казалось, она вот-вот лопнет, насупил густые брови.
— У тебя-то прекрасное положение, и оно сулит большие надежды, — сказал он. — Я же занимаю место скромное, самое заурядное, все это верно, но ты же знаешь, не по своей вине, вот в чем причина, — он раздраженно хлопнул ладонью по своей изувеченной ноге. — Ты из этой заварухи выпутался благополучно, а я нет, только и всего.
— Чистое везение. Я ту же самую окопную грязь месил.
На лице крестного промелькнула горькая улыбка, говорившая о неуместности сравнения их воинских заслуг.
— Я не собираюсь спорить, по тут ничего не поделаешь. А если говорить о нас, то ведь это твоя семья, и семья эта вполне порядочная, — он выделил голосом слово «порядочная». — Когда мы с тобой познакомились, ты, помнится, рад был, что ее нашел.
— Вот поэтому-то мне и неприятно видеть вас в таком положении. Я тебе откровенно скажу. Я не понимаю, как ты можешь мириться с том, что твоя мать продолжает оставаться консьержкой. Это меня удручает.
Тут дядя вспылил. Я и раньше замечал, что из-за своего ранения он часто теряет над собой контроль, это выражалось в неожиданных приступах гнева, а иногда в рыданиях. На сей раз это был гнев.
— А я тебе скажу, что это никого, кроме меня, не касается, и я не нуждаюсь в том, чтобы мне читали мораль! — загремел дядюшкин голос, и он вдруг страшно побледнел.
Отец резко отвечал, что он все равно будет это делать, нравится ли это крестному или пет.
— А малыш! Вы считаете, что для него хорошо жить в такой обстановке? — И отец широким жестом обвел швейцарскую.
— Но здесь он всегда под присмотром, с ним здесь занимаются… этим-то вы, я надеюсь, довольны… — вмешалась бабушка.
— Клара, поверьте, я очень ценю вашу самоотверженность, но выслушайте меня! Все ведь так просто можно решить! Почему вы не хотите переменить квартиру?
Но эта попытка к примирению оказалась напрасной.
— Ты у меня уже в печенках сидишь! — кричит дядя, тяжело поднимаясь со стула.
— Ну, если на то пошло, ты мне тоже давно осточертел! — кричит отец, которого лучше не вызывать на грубости.
Тут бабушка разражается слезами, и крестный, не помня себя от ярости, вопит с перекошенным ртом:
— Гляди, что ты натворил, негодяй! Отец багровеет и тоже вскакивает со стула. Мне становится страшно…
Я не хочу прибегать к литературным приемам, не хочу придавать этой сцене излишний драматизм. Мне действительно стало страшно, вот и все. Страшно не столько из-за разгоревшегося спора, который я, разумеется, передаю весьма приблизительно и неточно, и даже не из-за бранных слов — я их достаточно наслышался, — нет, мне было страшно смотреть, как двое друзей, чья фронтовая встреча привела в конечном счете к моему появлению на свет и чья давняя дружба, казалось, была такой же священной, как дружба античных героев, — мне было страшно смотреть, как эти два человека, чуть ли не братья, почти Диоскуры, вдруг начинают оскорблять друг друга и вот-вот перейдут врукопашную: вот ведь какой раздор! И самое ужасное, что раздор этот начался в тех самых стенах, которые были для меня желанным прибежищем, благословенным уголком покоя и мира, — это уже граничило со святотатством и могло повлечь за собой самые удручающие последствия: если и здесь поселилась вражда, то мне теперь никуда не деться от криков, прежде терзавших мой сон в родительском доме. И еще я понимал, как мучительно больно бабушке, это было главным доказательством отцовской несправедливости, и я принял, конечно, сторону Клары и разозлился на нарушителя нашего мирного ужина, то есть тоже стал горько рыдать, отчего бабушка заплакала еще пуще и со стоном отчаянья и любви прижала меня к себе. Можно ли так поступать, ведь ребенок теперь наверняка заболеет, он такой у нас слабенький, разве она заслужила, чтобы с пою так обращались, если у вас пошли нелады, так разве же мы виноваты, я всю жизнь с утра до ночи надрываюсь, себя не жалею, работаю честно, да еще этот лодырь всегда на шее висел, теперь-то он умер, бедняга, но из песни слова не выкинешь… и эти причитания, как мне представляется, загоняют отца в тупик. Такого поворота событий, такой бури он, как видно, не ожидал, когда высказывал свое недовольство. Агрессивность шурина, потоки жалоб и слез, причиной которых был он сам, — все это еще больше распаляет его, и тут уж характер его проявляется во всей красе. Как и всегда в таких случаях, он начинает яростно чертыхаться:
— Черт вас побери! Есть отчего рекой разливаться, точно Мария-Магдалина какая-нибудь! Посоветовал квартиру переменить — и вот вам, пожалуйста! А мальчишка чего здесь торчит? Чем слезы зря лить, лучше бы спать его уложили, черт бы вас всех побрал!
Наступает второй антракт. Мальчишку уводят, и он, весь дрожа, начинает сам раздеваться в тусклом мерцании лампы-«молнии», потому что Клара, торопясь скорее вернуться в швейцарскую, забывает зажечь на комоде голенастую птицу. Люсиль уже освободилась от некоторых своих причиндалов, в полумраке ее клонит ко сну, и она не замечает, как я удручен. Кое-как взобравшись на гималайскую кручу кровати, я понемногу успокаиваюсь под мудрые прабабушкины речи:
— Давно бы тебе надо было спать пойти, а не сидеть да их глупости слушать. Всё-то они норовят выше головы прыгнуть. Прямо как дочка Розы — знаешь, Розы из Гризи, у которой с дочкой такая неприятность приключилась. Дочку-то ты не знал? В деревне все не по ней было, все ей по так, и скучно-то ей, и женихов нет подходящих, и уж так-то она выдрючивается, и рожу себе малюет, и побрякушки на себя навешивает, уж прямо такая она благородная барышня, и ты хлебом ее не корми, а подавай ей Америку, в Голливуд ей, видишь ли, надо, чтобы стать там кинозвездой! Тьфу ты, Господи, потаскушка она! И вот в этой самой Америке нашелся один мерзавец, до нитки ее обобрал, да и бросил. И никакого тебе больше кино, и вернулась она домой, да еще спасибо скажи, что Роза с Альбером ее в дом-то пустили. Вот я и думаю, не оттого ли у Розы с тех пор что-то грудь теснить стало, удушье какое-то, прямо как у тебя; видно, очень уж сильно из-за дочери переживала…
В ту ночь я так и не узнал, отчего же все-таки у Розы теснить в груди стало: убаюканный этой историей, последней, что довелось мне услышать от Люсиль, я уже начал успокаиваться, медленно погружаться в сон, как вдруг снова послышался шум голосов, плач и грохот дверей. К нам в комнату кто-то ворвался. На пороге возникла бабушка, и в мерцании керосиновой лампы, которую она держала в руке, я увидел, что по щекам у нее текут слезы, а за ней, в пальто и шляпе, стоит разъяренный отец. Оглушенный, испуганный, я было решил, что они пришли наказать меня за какой-то тяжелый проступок, про который я почему-то забыл, но у меня не было времени копаться в своей совести, впрочем, и сама сцена была слишком драматической, чтобы я мог спокойно обо всем этом размышлять.
Строгим голосом отец приказал мне встать и одеться: мы уходим. Бабушка с горестным воплем поставила лампу на стол. Люсиль приподнялась на подушке и спросила, уж не посходили ли все с ума? Я в отчаянии кричал, что ничего плохого не сделал и не хочу уходить отсюда, Люсиль кричала, что все хотят ее уморить, ее дочь громко и жалобно причитала. Отец ходил взад и вперед по комнате словно палач, недовольный тем, что осужденный на казнь замешкался и заставляет себя ждать. Несмотря на всю эту ужасную суматоху, я понял, что мой бунт бесполезен. Обе бабушки оплакивали мою злую долю, по делали это с атавистической женской покорностью перед непререкаемой и законной властью мужчины. Клара, задыхаясь от рыданий, молила меня повиноваться отцу, с тоской напомнив то, о чем я начисто забыл: «Ты ведь не наш!» Против этого мне нечего было возразить, и я с тяжелым сердцем приступил к мрачному обряду одевания, стараясь производить его как можно медлительнее и бросая горестные взгляды на окружающие предметы, па существа, которые я любил, на дряхлую мою подружку, делившую со мной постель под гравюрами, изображавшими псовую охоту; ее горе, которое она выказывала сдержанно и стыдливо, было от этого не менее красноречивым. Когда я с ней прощался, она мне шепнула, что рано или поздно отец будет наказан за свою жестокость.