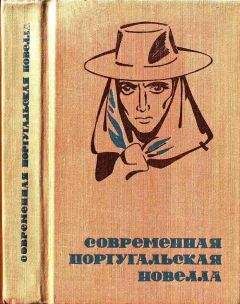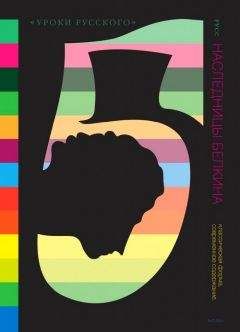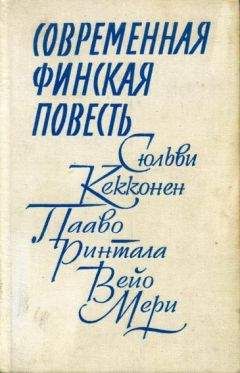Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
— Осторожно, Жасинто. Даже если тебе прикажут содрать с нее шкуру живьем, не делай этого.
Парень на козлах давился от смеха: понятно, она нарочно, чтобы слышал этот подлец. Подлец между тем не слышал, пеший переход от Монтоуро до города, унижение, которое она заставила его пережить в кабинете Медейроса, доконали его: «Бесись одна, я тебе не помощник, я кончен». Скверно, что коляска так долго плетется по грязи. Ямы, остановки, конца нет. Он закрыл глаза, пусть рычит за милую душу. Отвечать, зачем? Дремота заботливо уводила его мысли в самый укромный уголок головы, где ничто не могло их потревожить. Он засыпал. «Можешь кусать меня сколько угодно, на здоровье». Ему было довольно смежить веки, зажмуриться крепко, еще крепче, до того, что глаза слиплись совсем и он переставал слышать. Медленно погружался в свою усталость. Дремал. И в то самое время как Алваро Силвестре таким вот образом ускользал в сон, в ней разгорался пожар. «Значит, ему все равно, посмотрите на него, он, видите ли, выше, выше усталости, которую я испытываю из-за него, выше этой грязи, которая заставляет меня надрываться в такую погоду. Его превосходительство изволит дремать, какое дремать, его превосходительство дрыхнет, и ему плевать на то, что я говорю, на то, что ранена лошадь, на глупость этой поездки, которой не видно конца, плевать ему на весь свет. Я бегу за ним, как за собственным сыном, а Силвестре, отпрыск знаменитых Силвестре из Монтоуро, не желает даже знать этого. Я тащу его домой на собственной спине, как узел какой-нибудь, а Силвестре, Силвестре, который только что каялся, уверяя, что жизнь ему не мила из-за того, что он вор или бог знает что еще, храпит уже целую вечность, и целая вечность, как я слушаю этот храп. Я хожу на цыпочках вокруг него, я берегу его нервы; да развались коляска на этих ухабах, Силвестре и ухом не поведет. Силвестре покупает лошадей ни рыба ни мясо, откапывает кучеров под стать лошадям и храпит при этом в свое удовольствие, но довольно, о боже, довольно».
Она внезапно вскочила, сбросив шаль и плед, вскочила, словно язык пламени выплеснул из костра. Вырвала кнут из рук рыжего и — раз, два, дюжину раз — ударила по хребту кобылы. И еще, и еще, — «ради бога, сеньора, ради бога, сеньора», — и кнут опускался из тьмы яростным свистом и в свете фонаря становился ударом, видимой болью. Лошадь припадала мордой к земле, но еще тянула, хромая. Алваро Силвестре очнулся и протер глаза, чтобы лучше видеть, — возможно ли, неужели это она, посредине коляски, в слезах, с распушенными волосами, вся в тусклом золотом свете, хороша, до ужаса хороша.
— Довольно, довольно, довольно, довольно…
VII
Приехали поздно. Она успокоилась понемногу, вновь обретя сдержанность, корректность и покой. Покой, которым разрешается гнев: усталость, равнодушие. За столом даже спросила, почти не сердясь, какого черта делал ее муженек в Коргосе, в кабинете Медейроса, на что он, с набитым ртом, пробормотал что-то невнятное, и, так как в дверь уже стучались, разговор на этом оборвался.
— Открой, Мариана.
Ужинали в той самой зале, с очагом, обширной, но тесно заставленной высокой и широкой ореховой мебелью, груботканые шерстяные ковры прикрывали пол; тепло от толстых крепких поленьев смягчило ей горло.
— Пошевеливайся, милая моя.
Служанка открыла дверь на боковую каменную лестницу, ведущую во двор, и вошли дона Виоланте и падре Авел. Рядом друг с другом они были как яйцо и вертел. Всегда, когда она видела их вместе, — ее, плотную и маленькую, и его, долговязого, — дона Мария дос Празерес не могла не улыбнуться двусмысленно: в самом деле… никто не сказал бы, что они брат и сестра. Святоши из Монтоуро голову давали на отсечение, что нет, и хотя ему они готовы были простить многое, но по отношению к доне Виоланте держались неизменной и многолетней ненависти. Правда, и ненависть успела порядком постареть за прошедшее время. Они называли дону Виоланте «родная сестра святого отца», ироническое определение, подчеркивая родство, оставляло воображению какие угодно скабрезности. Был момент, когда положение падре стало совсем щекотливым, это когда вдове владельца скотобойни Тейшейры, очень богатой и очень набожной женщине, пришло в голову навести порядок в местном обществе, предоставив дело на рассмотрение епископу-графу, чтобы просить его положить конец скандальному сожительству: ибо если святые отцы нашей республики, и без того не блещущие достоинствами, будут выкидывать такие номера, то в состоянии ли они сделать что-нибудь достойное во имя святой доктрины?
Однако эта кампания увяла, когда дона Мария дос Празерес сразу же после замужества начала принимать у себя падре и его сестру. К тому же случилось так, что двоюродный брат фидалго, епископ, миссионер в Кошиме, возвратившись в Европу, посетил ее дом, и все видели, как падре улыбался ему, а тот улыбался падре и там, и тут, и в саду. Этого было достаточно, чтобы восстановить престиж падре и пристыдить святош: он в дружбе с епископом, с миссионером из Китая, а стало быть, и с нашим епископом-графом, он из тех немногих, кто допущен к столу во дворце; итак, дело Тейшейры исчерпано, и нам остается умыть руки.
И все же на дне их неуемных душ осел какой-то мутный уксус, который надо же было изливать на кого-то. Падре был теперь недосягаем, и они изливали свой уксус на дону Виоланте из года в год с упорством и постоянством, присущим большой ненависти, но дона Виоланте, не без помощи падре, сумела вынести все, — мычание ослов не может оскорбить ушей Виоланте, — и загадка так и осталась загадкой по осмотрительности или невинности обоих.
VIII
Она принимала гостей с обычной своей любезностью, чуть принужденной, быть может:
— Стул, дона Виоланте. Прошу вас, падре Авел. Где вам удобнее?
Алваро Силвестре погрузился в подушки плетеного стула у самого огня. Под рукой голландский столик, перекочевавший сюда из особняка Алва, одна из безделиц, которые свекру удалось наскрести на свадебный подарок, голландский столик, полдюжины портретов маслом (остаток дедовской галереи) и старинный шлем. Фидалго ручался, что шлем этот участвовал в сражении при Элвас, рядом с графом де Кантаньеде, с головою Пессоа де Алва, внутри само собой, и принес Менезесам победу. Вот тут что-то было неясно, даже и вовсе темно, но, стало быть, когда дон Антонио Луис, некий генерал от благоразумия (Менезесы всегда отличались благоразумием), опасаясь, как бы не попасть в окружение со всем своим войском, раскрыл уже рот, чтобы отдать приказ об отступлении, тогда дед дон Жеронимо подошел к нему: «Элвас должен быть взят, граф, я не отступлю, я ударю с моими людьми по флангу их кавалерии, и должно получиться». Он ударил, и оно действительно получилось. Фидалго указывал на шлем старому Силвестре: «Оставляю его тебе, я люблю его так же, как Марию дос Празерес, оставляю тебе и то и другое». Старый Силвестре постучал пальцами по семейной реликвии, послышался глухой звук, звук жести: материал так себе, но шлем можно повесить в большой зале, посередине стены, — учи историю, Алваро, будет что рассказать, когда придут гости. Портреты повесили в той же большой зале, три по ту и по эту сторону от шлема. Фидалго просил особенно поберечь портрет деда, поддержавшего короля дона Жозе в заповеднике Алмейрина: большая охота, видите, охотничьи рога, борзые, псари; перепрыгивая ров, король поскользнулся, и если бы не верная рука деда дона Нуно, его величество шлепнулись бы в грязь или во что похуже на глазах у всего двора, что вовсе ему не подобало. Когда прошло потрясение, дон Жозе поблагодарил ото всей души: «О, родовая мощь Алвас, дон Нуно, о, родовая преданность, если бы великий маркиз не вел теперь мой корабль, двери Алва — вот куда бы я постучался, тут ни убавить, ни прибавить, друг Силвестре, это его слова, выучи наизусть, сын мой, и держи их в памяти, это поможет тебе скоротать вечер с гостями».
Все это пришло в голову Алваро Силвестре сию минуту неизвестно почему, пока он ставил пустую рюмку на голландский столик, и его охватило непреодолимое желание рассказать одну из историй фидалго.
— Там, в центре залы…
Сказал он. И тут же умолк. Никто не обратил внимания на его, сказанные шепотом, слова, и сам он не мог бы теперь утверждать, что ему удалось их вымолвить. Падре Авел спросил:
— Ну, как ваше здоровье?
— Помаленьку, — кратко отвечал он, снова наполняя рюмку.
Дона Мария дос Празерес, однако, сочла нужным раскрыть односложный ответ в выражениях более корректных:
— Немного угнетен. Такая погода, что…
— Скверный, скверный октябрь, вы правы.
— У меня здоровые нервы, и то чувствую себя неважно, а Алваро тем более.
Жена ни словом не обмолвилась о побеге в Коргос, это его удивило. Впрочем, ему было все равно. Он уставился на большую керосиновую лампу посреди стола и так и застыл с глотком бренди во рту, глотая понемногу, машинально.