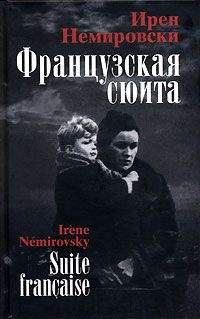Ёран Тунстрём - Сияние
Сам-то я еще глупее: интервью, которое я, оттаяв, взял у Лауры, для вулканологов и сейсмологов было пустой болтовней, и директор радиостанции об этом догадывался, потому что, не советуясь со мной, включил его в цикл передач «Зарисовки исландской жизни», где наши многочисленные сумасброды из числа астрологов, теософов и верующих в богов-асов разглагольствовали о своих химерах в свободном падении на безжалостный пол насмешки. Жестоко. Жестоко со стороны директора послать меня, наименее сведущего в естественно-научных вопросах. Для меня ее речи звучали красиво, описания пути синусоидальных волн сквозь ее плоть, магические ритуалы при прослушивании геофонов, ввинченных в брюхо Фредлы, я истолковал как поэзию. И по-прежнему утверждаю: программа «Ясновидица с Фредлы» получилась впечатляющая. Вокруг ее слов было космическое пространство, и нежность сквозила в ее чуткости к Земле как живому организму, одинокому космическому страннику. Но разве для профессионалов это аргумент? Сквозь лед подземные звуки не проникают, писали они. Резонансная способность у льда примерно такая же, как у желе. Если выстрелить по льду, почти ничего не происходит: пуля быстро останавливается, потому что лед эластичен. «Эта самозваная коллега превращает нашу науку в забаву. Мы физики, мы работаем в лабораториях и ведем расчеты на компьютерах. Пока функционируют геофоны, посылающие сигналы, нам незачем шастать по ледникам и вулканическим кратерам».
Сотрясения, обвалы, гул, — возможно, она регистрировала звуки, идущие из собственного ее нутра, а Фредла была всего-навсего оправданием, отговоркой. Время шло, и все яснее становилось, что надо спешить, что она должна успеть первой, опередить что-то уже начавшееся и бурно растущее. Я отчетливо видел это, когда она читала, а читала она охотно и часто. Использовала меня, заказывала книги в библиотеке, а я таскал их на гору и обратно. Плотин, Спиноза, Паскаль, Шопенгауэр — я не вижу меж ними ни связей, ни различий, потому что несведущ. А она, должно быть, пробиралась в мире этих книг по тропке ассоциаций, перепрыгивала с кочки на кочку, шла по хрупким стихам от берегов одного философа к берегам другого, перескакивала через глубокие расселины, отворяла потайные дверцы, открывала кодовые замки и двигалась дальше, я не знаю, куда она держала путь, она все быстрее муслила пальцы, взгляд мчался по страницам; где она находилась, когда сидела в ту пору летом на подстилке из шикши и горных васильков, у крохотного озерца, высоко на склоне Фредлы? Что вычитывала в словах, которые видела? Что слышала, когда кричал ворон, когда журчала вода, когда камни катились по горным кручам?
Неконтактная, склонная к аутизму, да, пожалуй. Но мне представляется, что чем больше она замыкалась в себе, чем меньше слов было направлено сюда, тем шире распахивался ее внутренний мир, который в конце концов стал несподручно огромен, со своими лабиринтами слов, понятий, увечных мыслей, — в висках у нее, наверное, неумолчно стучало, голова разрывалась от вечной боли.
Ты был зачат в снежном гроте, а родился летом, Фредла в тот день пышно цвела, изрыгая огонь на верещатник, ты увидел свет в том самом месте, где я так часто мечтал сидеть с тобой в тишине и где построен наш дом, чтобы ты, когда у тебя возникнет потребность почерпнуть силу вовне, был неподалеку от своего истока, от постели из шикши, где Лаура дала тебе жизнь.
Когда это случилось, меня там не было. Но я прекрасно помню день, когда Ислейвюр бегом прибежал в Рейкьявик. Что он бегал по горам, знали все, ведь молва твердила, что в юности он мог на бегу поймать лисицу. А тогда он бегом прибежал в Рейкьявик. С тобою на руках вырвался из рогаток робости, за которыми укрывался годами и которые, безусловно, наложили отпечаток на все поступки Лауры. Обитатели Скальдастигюр частью высыпали на улицу, частью торчали у окон, наблюдая извержение Фредлы. В великой своей беспомощности — подобное ей по масштабу можно отыскать разве что в глубочайших безднах души — он открыл нашу калитку, блуждающим взором нашел меня, протянул сверток из ткани и веточек шикши — тебя.
— Я только хотел… передать… Это от Лауры, она сказала: папа, отнеси Халлдоуру. — Ислейвюр внимательно оглядел меня. — Ты ведь и есть Халлдоур?
Я кивнул.
— Тогда, стало быть, все правильно.
«Тогда, стало быть, все правильно». В тот миг, когда я принял тебя, я принял и мою мантру, слова, которые — согласно моему любимому справочнику, — не имея значения, помогают медитирующему обрести покой. Эта фраза: «Тогда, стало быть, все правильно» — прозвучала в устах Ислейвюра так веско, что сразу же погрузилась в мою душу. Она и сейчас лежит там и дарит свет. В печали она вызывает у меня если не улыбку, то хотя бы сознание, что улыбка существует. «Тогда, стало быть, все правильно» — эти слова выходят далеко за пределы своего частного значения, они связаны с самим часом передачи, с пылающим жерлом Фредлы за лохматой фигурой Ислейвюра, со взглядами обитателей Скальдастигюр, с запахом веточек шикши, обернутых вокруг твоего тельца, и с тобой — с жизнью в моем умиранье.
«А Лаура?» Этот вопрос, который ты неустанно задавал мне, — этот вопрос я задал тогда Ислейвюру. Он знал только, что она ушла. Куда? «Фредла ее позвала», — ответил он. Много дней мы с ним, и не только мы, пядь за пядью обшаривали склоны Фредлы. Сколько отверстых кратеров, сколько расселин и теснин — все они могли забрать ее. Но вправду ли забрали? Или она дала себя забрать, полагая, что исполнила свой долг перед Землею, перед тобой? Мы звали ее по имени. Со всех сторон оно гулко раскатывалось над пустошами.
Пьетюр, ее имя — оно по-прежнему там, наверху. Неистребимое. Ты услышишь его, если будешь сидеть, в одиночестве медитируя возле дома, под звездами, под луной, у своего истока. Особенно в пору студеных осенних ночей, когда Вселенная будто одно-единственное, огромное, бьющееся сердце, когда все вокруг холодное, ясное и запредельное языку, а проявления жизни не находят пути внутрь, — тогда ее имя летит над верещатником, и ты поймешь, что жизнь по сути своей преисполнена безмерной тоски.
Все, больше не могу.
Будто пышное кучевое облако стояла на пороге сестра Стейнунн, призванная туда сигналом тревоги, который я подал, прежде чем упал, измученный бесплодным усилием моего длинного письма достичь цели. «Нам больно?» — спросила она, и нам вправду было больно; но она подобрала меня, худо-бедно слепила из кусочков, чтобы я добрел до машины. «К морю», — сказал я. Хватит с меня лечебницы, это заведение уже сделало с телом все, что могло. К морю. Море доброе, это А, и Б, и В. Море, берег и горы. Сидеть спиной к своим давним мелким радостям — уже хорошее лечение. Но в подарок на день рождения хотелось бы получить плед, впрочем, нет, можно попросить сестру Стейнунн, пусть купит, у тебя и так забот хватает.
Сегодня мне запретили и это — выреза́ть из ольхи ножички для масла. А я рассчитывал закончить мои дни, именно вырезая ножички для масла, — скромное занятие, гладкое дерево под пальцами, смолистый запах на кухне. По моей просьбе один из корреспондентов привез с севера несколько жердин. Сестра Стейнунн отобрала у меня нож: тебе, дескать, дали чересчур много кроворазжижающих препаратов, случись что, кровотечение не остановить.
Вот и руки мои тоже умолкли.
Деловито тикает у моего изголовья красный будильник, словно что-то знает о времени.
Словно воображает, что ему отведена некая роль во всепланетной программе сотрудничества часов.
Словно прямо-таки способен изготовить для меня время.
Патетически театрально движутся секундные стрелки, но в эти дни на пороге События они не задевают меня. Минуло уже много таких дней, не пожелавших привязать меня к себе. Дни теперь заняты другим и другими — политикой на экране телевизора (большей частью это Йоун Хьяльмаурссон) либо влюбленными парочками, которые, несомненно, бродят по кладбищам Исландии, с блеском радости бытия в глазах. Все правильно, ими-то и должны заниматься дни и свет. И я понимаю, Пьетюр, справедливости ради нужно признать, что и я удостоивался блеском сей милости, только это было давно, я раскачиваюсь туда-сюда, пытаюсь взвихрить Время, но все умерло. Ничто не желает заниматься мною. Слова не приходят, атмосфера пропитана отсутствием. Воспоминания не приходят. Я забываю все, как только что забыл слова доныне так хорошо знакомых псалмов. «Восходит солнце на востоке / и плещет золотом на небеса…» А что дальше? Целый день вспоминал. Н-да, некогда эти слова упали в мою голову со стены, где были выписаны будто золотом; не иначе как дождь долго стучал по этой стене, возникли трещины, чешуйки осыпались, уплыли прочь по сточным желобам памяти. «Восходит солнце на востоке / и плещет золотом на небеса». У меня даже Псалтири нет, чтобы посмотреть, оказывается, у меня вообще нет Священного Писания.