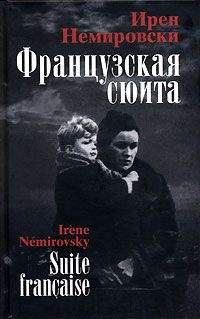Ёран Тунстрём - Сияние

Обзор книги Ёран Тунстрём - Сияние
Ёран Тунстрём
СИЯНИЕ
Обычное философское наблюдение — самые простые феномены, присущие нашему бытию, привлекают наше внимание в последнюю очередь, и обнаружить их труднее всего.
К.Э. Лёгструп[1]I
Словно улыбка юной женщины, впервые увидевшей в оригинале Боттичеллиево «Рождение Венеры», вспыхнуло это утро над вересковыми пустошами, куда я взобрался, ожидая, что почерпну здесь силу от моих истоков. В бинокль я обвел взглядом горизонт — ведь нужно убедиться, что я один и что настоящее время ничем не помешает моим раздумьям.
Ничего такого не видно. Облака, которые окутывали вершину Фредлы, внезапно расступились, и на лужайку перед моим летним домиком хлынул свет. Впереди раскинулся синий морской простор, а в озерце неподалеку купались сотни морских ласточек. Еще тут были ржанки, кулички-сороки и чайки, временами, будто снежные тучи, налетавшие с птичьего базара. Восемь лошадей торговца играли, подталкивая друг дружку, прохладный ветер задувал с ледника, легонько шевелил пышные лиловые подушки горных васильков и спешил дальше, к лавовым полям Глухомани.
О эта земля! Похожая на распухшую бесперую утку, лежит она далеко в Атлантике земля, достойная музыки Вагнера. Будь я поэтом вроде моего отца, я бы, не раздумывая, написал для него либретто. Здесь мне хочется быть, и завывать на луну, и воскрешать в памяти трепет непостижимости. Ведь на пустошах ведутся иные разговоры, не такие, как внизу, в Рейкьявике. На пустошах мои персонажи бродят в иной обстановке, не такой, как требуют каноны реализма. Тут они возникают на периферии поля зрения лишь затем, чтобы вмиг исчезнуть, едва только я пытаюсь всмотреться в них. Здесь, наверху, они еще наброски, идеи, возможности. Их характеры зыбки, — словом, я еще ничего не знаю, потому что до сих пор страшусь знания, ведь оно смыкается вокруг, меж тем как прочитанная до конца книга оставляет тебя в одиночестве.
Я заглянул к старику Ислейвюру сказать, что дым из трубы там внизу — мой. Что я приехал на недельку-другую собраться с мыслями после смерти отца, кое-что написать.
— Н-да, Халлдоур… Я слыхал по радио, не пришлось ему дожить до старости.
Ислейвюр обтер две свои чашки (других у него не было) и предложил мне крепкого, настоянного на травах чаю.
— А сам, значит, поедешь…
— В Париж. Но послом человек бывает не всю жизнь.
Я сидел у окна, где стариковские запахи докучали меньше, и смотрел на Ислейвюрову землю, он жил здесь один; всю близкую родню, как он выражался, прибрал Господь.
— А тот футбольный мяч? Ты его так и не вызволил?
Он хихикнул, а я покачал головой, глядя, как свет растекается все дальше вниз по склону Фредды, теперь и южная стена моего дома оказалась на солнце. Не кто иной, как Ислейвюр, о котором говорили, что он на бегу мог поймать лисицу, научил меня всему, что я знаю о вересковых пустошах. О растениях. О подземных обитателях. О том, как черпать силу от своих истоков. О во́ронах. Это он однажды летом, когда мы с отцом гостили у него, взял меня за руку и повел к огромному птичьему базару на неприступной скале. Когда я спустя годы объявил, что хочу забраться на скалу и посмотреть на птиц поближе, его вдруг обуял необъяснимый и никогда прежде не виданный гнев:
— Никогда, мальчик мой. Никогда не тревожь их, ведь они как… как… — Он так и не закончил эту фразу.
Когда я начал спускаться вниз, день уже вступил в свои права: очертания предметов стали мягче, легкая дымка затянула автобусную остановку, гавань и пирс, но я приметил, что пастор Магнус Магнуссон, наш божественный форпост, как всегда, был там, вкушал субботние сласти.
Я вошел в дом, к белой бумаге, вере и сомнению, к мирозданью и хаосу, к попытке выстроить ту жизнь, что была когда-то и снова возникнет в реконструкции, жизнь если не его, то, по крайней мере, некая, а если не жизнь, то, может быть, повесть, более или менее приятный и занимательный рассказ о смешных нелепостях, которые все вместе зовутся любовью.
II
~~~
Отец мне еще и мать.
Он кормит меня вареньем из шикши и скиром[2]. Силком поит меня самодельным рыбьим жиром из акульей печенки, утирает нос и дома на кухне раскидывает надо мною свои широкие крылья — на кухне, где родилось такое множество хлебов, подошло такое множество пирогов. Стоит лишь зажмурить глаза — множество хлебов, множество пирогов, целый лес музыкальных инструментов, которые по-прежнему звучат, хотя живые так давно оставили их в углу возле печки. Моцарт, Шуберт. Нисходящие квинты Гайдна.
Музыка — и не только у нас. Свернешь на Скальдастигюр, пройдешь мимо тихого кладбища и словно попадаешь в волшебный край, возможно, благодаря барышне Вигдис из угловой квартиры. Ее окно всегда приоткрыто — не знаю, нарочно или нет, — но как только ты делаешь первый шаг по нашей улице, она непременно принимается играть «Приглашение к танцу» или какое-нибудь другое бравурное произведение, ведь под ее пальцами — пальцами учительницы музыки — любая пьеса становится бравурной, и целые охапки дивных звуков сыплются в окно и падают на мостовую, скачут, резвятся под ногами. Чуть подальше, в доме шесть, малышка Альда разучивает этюды Клементи, а совсем вдали распеваются перед осенним концертом в Сельфоссе участники Хора ветеранов-метеорологов.
Я хорошо знаю нашу улицу, так как продавал рождественские журналы во всех подъездах, бывал и у Йоуна Оскарссона, где пахнет спиртным, и у неразговорчивой тети Херборг, которая позволяет своим собакам писать в кустах нашей смородины, — везде бывал. Но больше всего мне нравится дома. Стоит лишь зажмурить глаза — и я вижу, как входят еще живые музыканты. Зануда Свейдн с Ньяльсстрайти, седовласый Бьярни Хельгасон, чей альт ненароком пускается в странствие по клинкерным плиткам, когда Фредла ревет, а стены дома дрожат и покрываются трещинами, навсегда. Я вижу, как Бьярни съеживается от страха и молитвенно складывает руки, хоть и нет у него Бога, чтобы молиться Ему.
Мордекай Катценштейн тоже всегда здесь, стоит лишь зажмурить глаза. Суетливо перебирает мешочки пряностей из Амстердама, отряхивает снег с бороды, свет стеариновых свечей трепещет на его пальцах.
Здесь ли Лаура? Иногда здесь, а иногда нет. Моя сейсмическая мама — виолончель между коленями, густые черные волосы, которые я видел, наверно, только на фотографии. Моя мама, рассказывающая об орлиных камнях, что рождает живых птенцов. Лаура, которую забрала Фредда. Грохочущая Фредда, по чьей милости дрожат дома. Да, она тоже здесь среди всех звуков Гайдна, во всех оттенках Моцарта. Она здесь, как Душа. Как Сага.
По фотографиям я знаю и как выглядит отец сразу после моего рождения. Как он держит меня и улыбается, показывая крупные, острые зубы. Он высокий, чуть сутулый, с впалой грудью, возле которой я уютно покоюсь на первом снимке. Если брюки и рукава пиджака слишком коротки, мужчины, даже весьма долговязые, кажутся невзрослыми и беспомощными. Так и он, когда по-птичьи наклоняет голову, пытаясь поймать мой взгляд.
Не знаю, удалось ли ему это.
Удивительная штука — фотография. На втором снимке я, по-прежнему уютно, сижу возле его левого уха. Сижу удобно, как в мягком ушастом кресле, а по причине двойной экспозиции сижу еще и в воздухе, перед нашим домом, над смородинными кустами, предметом отцовской гордости, — раз в году они распускают свои листочки, и со временем я учусь трогать эти листочки так, что по всей улице льется благоухание.
У меня нет никаких оснований вступать в полемику с египетской сектой, которая полагает, что мир возник из семикратного громкого хохота первобожества Абрасакса[3]. Наоборот. Я бы охотно примкнул к ней, если б не познал Сияния. Вопреки этой абсурдной жизни, которая частенько норовит закончиться полным фиаско.
Бывает ведь, что в глазах живых те, чья жизнь была коротка, окружены сиянием. Но те, кто умирает в пятьдесят? Исландским некрологам присуща трогательная беспомощность, и, по-моему, кое-кто из отцовских друзей стремился побороть ее, составляя посмертное слово о нем, а именно утверждая, что он пылал любовью к треске, пикше и сайде. Что он прямо-таки нес эту любовь в своих исконно исландских генах. Не это ли наполнило сиянием его некролог?
На третьей из моих детских фотографий — он поднимает меня высоко в воздух, словно трофей, — я вижу, как он весь светится. Как долго мы светимся?
Отец был знаменитостью.
Когда он говорил, его внимательно слушала вся наша страна, потому что он читал по радио сводки из рыбного порта. Он работал на радио, готовил различные программы, в основном о рыбе, так что всю жизнь меня окружали треска, пикша и сайда, а потом и другая, менее симпатичная рыба.