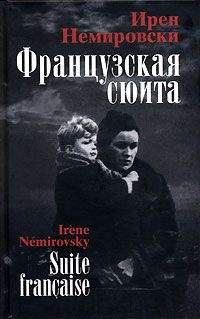Ёран Тунстрём - Сияние
Я знал, что такое — море. Из наших окон на Скальдастигюр можно было видеть, лежит ли оно на спине, нежась на солнышке, или сердится, потемнев лицом, или просто дуется, лежа на животе. Мы часто гуляли по набережным, смотрели на рыболовные суда, и до сих пор все было хорошо. Но однажды в поле моего зрения возникла стрела подъемного крана, и прямо у моих ног приземлилась огромная пасть и пара свирепых глаз — акула. Я побежал прочь от нее, бежал всю ночь, метался в постели, акула не оставляла меня, теперь она была в ванне, — возможно, это вообще самое первое мое воспоминание.
Отец ставит меня на пол, закутывает в одеяло.
— Опять акула?
Он не говорит, что бояться не надо, что в ванне акул не бывает. Он идет навстречу моему страху и говорит:
— Опасное можно нарисовать.
У акулы много обличий, и отныне она существует на свете, а я становлюсь знатоком разных форм ее бытия. Как только дома собираются гости, речь заходит об акулах. Я знал все — где водится рыба-молот, сколько продолжается беременность у меч-рыбы, каковы размеры неопасных кошачьих акул. Кое-кто из членов нашего правительства — отцовские кузены как раз тогда были министрами жилищного строительства и сельского хозяйства — просто диву давался.
Я рисовал всех этих чудищ морских глубин, и мне здорово помогал небезызвестный капитан Немо. Жил он в подводной лодке, играл на фисгармонии в ярко освещенном салоне за толстыми стеклами иллюминаторов. У него были там красные подушки, мягкие ковры, уютные абажуры. Мне нравились рассказы про его пещеру, нравилось само слово «салон».
По сохранившимся рисункам можно отчетливо проследить развитие: на самых ранних я рисовал огромных, во весь лист, акул, на две трети состоящих из пасти, в которой виден каждый зуб. А возле пасти плавает совершенно голый крохотный человечек. Не больше кильки.
Множество громадных акул. Множество пастей. Но человечек растет, вскоре на сцене появляется подводный корабль. За круглым иллюминатором стоит капитан Немо в полном снаряжении аквалангиста, с ножом в руке. Еще несколько альбомов — и он расстается с защитным стеклом. Поначалу еще привязанный к кораблю пуповинами тросов и шлангов. Много крови. Много отрезанных конечностей. В шесть лет я в образе капитана Немо наконец победил чудовище, на последнем рисунке этого жанра оно брюхом кверху уплывает из моего поля зрения.
Отец поработал не зря. Он никогда не сдавался, так как был, увы, правоверным агапистом, то бишь человеком, который, не помышляя о собственных удовольствиях, посвящает себя совершенствованию другого.
Выражалось это порой весьма неожиданно. Когда я в школе однажды описался, потому что не сумел открыть дверь туалета, отец произнес пламенную речь против политики запертых дверей; взяв за отправную точку учение Монтескье о климате, он поделил людей на теплых и холодных, теплые держали двери открытыми, а холодные недоумки-карлики все вокруг запирали. Родительское собрание затаило дыхание, слушая, как знаменитый голос сыплет фейерверком метафор, а наша учительница, Раннвейг Проппе, особа богобоязненная, вежливая и смиренная, никак не могла уразуметь, какое отношение эта ученая лекция имеет к двери туалета. Она только съеживалась от отцовых филиппик, а когда он, раскрасневшийся, с пылающим взором, добрался до матриархата на Новой Гвинее, где двери никогда не запирались по причине их отсутствия, спросила, не стоит ли выпить кофейку, отчего в первый, но не в последний раз вдохновение оставило его.
И в душевном плане он тоже кое-что для меня сделал.
— Никогда не остри, сынок, веди дневник, — говорил он с такой серьезностью, что эта фраза вполне заслуживала быть произнесенной по-латыни: «Decinas iocari, mi fili, diario verba commende» — или, за опущением «сынок», превратиться в великолепный гекзаметр:
DECINAS IOCARI,
DIARIO VERBA COMMENDE.
Их теперь набралось много, черных клеенчатых тетрадей, которые он дарил мне в каждый день рождения, с тех пор как я научился писать. Там, как он считал, найдется место всему, что казалось мне исключительно моими собственными помыслами и переживаниями, и через несколько лет я пойму, какой поистине исторической персоной я был.
— Если послушаешь моего совета, ты непременно обнаружишь, что твои поступки — часть истории, что твои мысли следуют течениям или уносятся потоками куда более могучими, чем твое «я» способно себе представить.
— А ты сам вел такой дневник, папа?
— Увы, нет. Я никогда не вел дневник, вместо этого я играю на скрипке.
~~~
Кухня. Стоит лишь зажмурить глаза.
Я не помню, на каком языке говорит Мордекай Катценштейн, но помню его голос: странно ломкий, иногда пискливый, иногда низкий, густой, что-то внутри его безнадежно треснуло, слушаешь — и сам хрипнешь.
— Обратите внимание, — говорит он на всех языках, — на слово «sanft» в стихотворении Клаудиуса[4]. «Sollst sanft in meinen Armen schlafen». По-моему, это ключ к всему музыкальному миру Шуберта. Смерть говорит девушке:
Gib deine Hand, du schön und zart Gebild!
Bin Freund und komme nicht zu strafen.
Sei guten Muts! Ich bin nicht wild,
Sollst sanft in meinen Armen schlafen!
Отец глубоко вздыхает, скрипка лежит у него на коленях. Свейдн, обладатель самых больших ушей и самой лысой макушки во всей Исландии, сидит выпрямившись, с непроницаемым видом, свой инструмент он держит у подбородка, готовый начать в любую минуту, словесные рассуждения его не трогают.
Что так дрожишь, пленительный цветок?
Пришел утешить, не карать я,
Доверься мне! Я не жесток,
Навеют кроткий сон мои объятья[5].
Стоит лишь зажмурить глаза, и я вижу в нашей кухне все струнные квартеты, трио и прочие созвездия, ведь после концертов отец приглашал именитых гостей к нам, на музыкальный эпилог. Там, под моими веками, восседают Джульярдский квартет, Куартетто Итальяно и многие другие. Огромные хлебы, множество сыров и вин. Лица сменяют друг друга в отблесках роскошной дровяной плиты, привезенной из Норвегии.
По-моему, я прослушал всю камерную музыку, какую только возможно, от первого настоящего квартета — соч. 33 Гайдна, — с которого начинается венский классицизм, до «Музыки ночи» Бартока и «Интимных писем» Яначека, я слышу их снова и снова и воочию вижу дивное мгновение, когда музыканты сосредоточиваются, умолкают, внимательно смотрят друг на друга, а затем на удивление слаженно подносят смычки к струнам.
Тогда я тихонько крадусь к окну, выходящему на Скальдастигюр, и осторожно приоткрываю его.
~~~
Частью моего воспитания были и наши с отцом походы на Луну. Возможно, это входило в его великий агапический план, согласно которому я должен увидеть всё. Иначе с какой бы стати на столе оказался экземпляр научного иллюстрированного журнала с такими потрясающими фотографиями Луны, что у меня невольно вырвалось:
— Интересно, каково это — быть на Луне?
Отец встал.
Он словно ждал именно этих слов. Прошелся по комнате, поправил три картины, которые от малейшего сотрясения земли перекашивались, мыском ноги распрямил бахрому нашего полушерстяного ковра, пригладил волосы.
— Луна — это сущий ад. Там ничего не растет. Сплошной камень. Обломки и черная лава. Милями. И ночь. И камни, одни только камни…
Отец остановился спиною ко мне, глядя на море, — привычная для него поза, когда он хотел сказать что-то важное.
— Пожалуй, будет очень полезно…
И вот неделю спустя мы сидели в джипе, медленно ползущем по лаве. Неподалеку от ада отец сказал:
— Теперь надо вымазать лица сажей.
— Зачем?
— Чтобы нас не обнаружили.
— Кто?
— Пока не знаю. — Но вообще-то он знал. Потому что подмигнул. — Они не хотят, чтобы их беспокоили, они здесь тайно. Американцы. Все, больше ни слова.
— Потому и Кеблавик[6] окружен такой тайной?
— Нет, там все дело в соглашении.
— Но ведь это наша земля, ты же сам говорил, что исландцы самостоятельный народ, в свободном государстве. Выходит, ты врешь?
— Нет. Это тоже верно. На свой лад. Хотя и ошибочно. На свой лад. Ведь на самом деле ни один человек не бывает либо одним, либо другим.
Лица у нас стали черными, под цвет лавы. Пригнувшись, мы продвигались среди первозданных глыб, я знал, что мы играем в «людей на Луне».
И неожиданно — Луна. Неожиданно — всерьез. Неожиданно — головокружение. Мы оба высунулись из-за каменного гребня, и на миг я потерял дар речи. Я беззвучно разевал рот, пытаясь нащупать руку отца, а он пытался нащупать кнопки магнитофона, потом слегка разгреб ногой щебень и поднес микрофон к самой земле; дышал он тяжело, показывая, каким утомительным было наше странствие. И негромко заговорил:
— Наконец-то мы на Луне. В нескольких сотнях метров я вижу трех астронавтов в белых скафандрах…