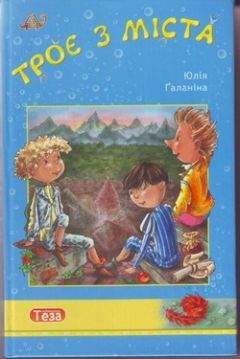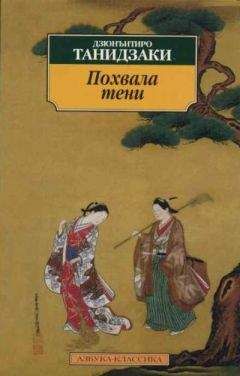Дзюнъитиро Танидзаки - Та, которую я люблю.
С каждым шагом я чувствую все большую тяжесть на сердце, и меня охватывает глубокое волнение. Холодный пот выступает на лбу, дыхание учащается, и сердце бьется с невероятной силой. Осторожно переставляя непослушные ноги и глядя вниз, я как во сне двигаюсь по пустынному проселку. И вдруг мне кажется, что из темноты, словно из пещеры, выбираюсь я на широкое открытое пространство, и я невольно поднимаю голову. Сосновый лес все еще не кончился, но там, вдали, за ним блестит что-то маленькое, круглое, светящееся. Ка жется, будто смотришь в перевернутый бинокль. Прав да, этот свет непохож на свет лампы – он холодный, безжизненный, как блеск серебра.
«Ох, это же луна! Луна! Над морем взошла луна!» – наконец догадываюсь я.
В эти минуты сосновый лес заметно редеет. И сквозь широкие просветы между деревьями, как сквозь окна, переливаясь словно шелк, льется и льется торжественный серебряный свет. На дороге, по.которой я иду, все еще темно, а в небе над морем уже рассеиваются тучи, и оттуда пробивается яркий свет луны. Вода сверкает, отражая лунный свет, и это сверкание с каждой минутой усиливается, и сейчас даже из глубины соснового леса на воду больно смотреть. Мне кажется, в лучах лунного света поверхность моря вздымается, вскипает и беспрерывно бурлит. Небо над морем светлеет, и как бы вслед уходящим тучам светлеющее небо надвигается и на лес, притаившийся,в тени холма. Через мгновение а на дорогу ложится первый луч серебристого лунного света. И вот наконец и.на меня бесстрастная луна бросает отчетливую тень сосновой ветки. Холм постепенно остается позади, и я, сам того не замечая, как бы застигнутый врасплох, из глубины соснового леса вступаю на пустынный берег бескрайнего моря.
«Ах, как прекрасно!» – в молчаливом восторге я застываю перед морем. Дорога, по которой я вышел к морю, тянется вдоль длинной изрезанной береговой полосы. И, насколько хватает глаз, на берег, подступая к дороге, с легким шуршанием вползает белая пена.
Не сосновый ли это бор в Михо? Или это залив Таго? А может быть, берег Суминоэ или бухта Акаси? Так или иначе, места эти знамениты, я прекрасно помню их по открыткам и сейчас с радостью узнаю прибрежные сосны с покалеченными ветками и корявыми стволами. Озаренные луной, они бросают на дорогу резкую тень. Между дорогой и кромкой прибоя песок белый-белый, словно снег, и лежит он, я думаю, неровно, волнами, но очень яркий лунный свет волнистость эту скрадывает, и видна лишь ровная, спокойная поверхность берега. Ничто вокруг не отвлекает взгляда – и с волнением смотришь только на море, которое простирается до самого Горизонта, да на ясный круг луны в бездонном небе.
Море, которое совсем недавно я мог видеть из глубины соснового леса, сейчас блестит под лучами холодного лунного света. Оно не только сверкает, переливается, но, кажется, отражая расплескавшийся свет высокой луны, зыбится, вздувается в непрерывном движении. Х может быть, оттого, что море движется, и рождается этот нестерпимый фосфорический свет. Может быть, здесь центр моря, и оттого, что приливы и отливы поднимаются и исчезают в водовороте, вода по всей поверхности взбухает и бурлит. Во всяком случае несом ненно, что здесь настоящий центр моря, и потому оно здесь кажется выпуклым. И, растекаясь отсюда во все стороны, отраженный свет дробится на мельчайшие частицы, погружается в рябь невысоких волн, мелькает в них, и чешуйчатая волна мягко набегает на кромку песчаного побережья. И даже морская вода, которая разбивается о береговую линию и торопливо вползает на песок, приносит с собой этот свет.
Неугомонный ветер в эти минуты стихает. Не слышен теперь беспрерывный шум и шелест ветвей – затих сосновый лес. Только волны набегают на прибрежную полосу и, словно боясь нарушить глубокую тишину этой лунной ночи, едва слышно шуршат по песку. Кажется, будто слышится долгий печальный голос, который так тих, что звук его должен вот-вот исчезнуть, но он все же длится, как бы не имея конца. Так, подавляя рыдания, почти беззвучно может плакать женщина, с таким же тягучим, едва слышимым ворчанием краб выдувает пену из щелей своего панциря. А может, это и не голос, а тихая, нежная музыка, которая придает еще большую таинственность тишине сегодняшней ночи.
Когда смотришь на такую луну, невозможно не думать о вечности. Я был ребенком и вряд ли представлял, что такое вечность, но какое-то близкое к этому, незнакомое, тревожное чувство уже овладевало мною.
Мне кажется, что и раньше где-то я видел такой же пейзаж, и не однажды, а много-много раз… Может быть, то было до моего рождения в этом мире? Может, во мне сегодняшнем оживает память предыдущей жизни?.. А что, если я видел эту картину не в реальном мире, а во сне? У меня такое чувство, что именно во сне я не раз видел этот пейзаж с соснами. Да, наверняка во мне доводилось видеть, Видел и два-три года, и совсем недавно. Я и тогда думал, что в реальном мире и это море, и эти сосны непременно где-то существуют, и мне когда-нибудь доведется их вновь увидеть. Во сне мне грезилось, что это непременно сбудется. И вот это предчувствие сбылось, и я увидел наяву давно знакомые картины.
Даже волны набегали на берег, словно в глубокой задумчивости, и мне захотелось замедлить шаг, пойти тише, как бы крадучись, чтобы ненароком не спугнуть этот пейзаж. Но непонятно почему, меня вдруг охватило волнение, и торопливо, словно за мной гнались, я устремился по дороге, которая петляла вдоль береговой линии. Вокруг царила мертвая тишина, и меня снова одолел тоскливый страх. Ведь стоит мне зазеваться, и я, быть может, уподоблюсь этим прибрежным соснам с корявыми стволами и поломанными ветвями-они застыли на берегу как каменные изваяния. И если я останусь здесь, поневоле должен буду превратиться в камень, и много-много лет, а может и вечность серебряные лучи луны будут лить на меня свой холодный свет. Не чувствует ли каждый, кому довелось увидеть пейзаж, такой, как мне этой ночью, что в нем пробуждается смутное желание умереть? Если умирать здесь, то и смерть не так страшна – вот мысль, которая, должно быть, привела меня в такое волнение.
Льется яркий лунный свет, озаряя весь мир. Существа, которых коснулось сияние этого холодного света, навсегда умерли. Лишь только я живу. Только я живу и двигаюсь – эта мысль не давала мне покоя и гнала вперед. Она-то и возбудила во мне щемящее чувство, и оно росло с каждой минутой и все больше угнетало меня. И я невольно убыстрил шаг и разве что не пустился бежать по дороге. Но вот в следующий миг страх вселился в меня. Наверное, оттого, что я почувствовал свое одиночество в этом неподвижном мире.
У меня перехватило дыхание, я на мгновение задержал шаг и неожиданно почувствовал, что окрестные места вызывают во мне грусть. По-прежнему ничто не нарушало мирного, молчаливого покоя этой пустынной местности, а небо и вода, дальние поля и горы растворялись в туманном свете луны. И эта мертвенно-бледная тишина похожа была на кадр внезапно остановленного фильма. Дорога серебристо-белая, словно от выпавшего инея. Странные резкие тени сосновых веток и стволов двигались по обочине дороги, змеясь и тихо скользя мне навстречу, потом исчезали у меня за спиной и появлялись вновь. Сосны внизу у самых корней вливались со своими тенями и скрывались в их густой черноте. Тени же, наоборот, становились отчетливо резкими. И казалось, будто они и есть деревья, а деревья – бесплотны. Может, и я поменялся местами с моей тенью и существую сейчас как ее отражение? И когда, замерев, в подпой неподвижности долго-долго вглядываешься в собственную тень, то кажется, что и она, распростершись по земле, неотрывно смотрит на тебя.
Все вокруг неподвижно. Только мы двое – я и моя тень – шаг в шаг все еще бредем по дороге.
«Я не слуга тебе. Я твой друг… Уж очень хороша луна, вот почему я здесь. Ты тоже одинок и несчастен, давай дальше пойдем вместе», – казалось, будто тень уговаривает меня.
Чтобы как-то отвлечься, я шел, считая теперь тени от сосен. Время от времени дорога то приближалась к кромке прибоя, то отдалялась от нее. Море подгоняло к песчаному берегу невысокую пенистую волну и быстро размывало его. Казалось, ещё немного, и вода зальет корни сосен. Уходя, волна будто расстилала по песку белый атлас, а вновь набегая на берег, дробилась на множество бурунов, и они напоминали мыльную пену, взбитую в горячей воде. Удивительно, что и эти крошечные буруны, скользя по песку, отбрасывали короткую тень и тут же пытались настигнуть ее. Да что и говорить, в такие лунные ночи даже иголка и та не могла бы остаться без тени.
Не то из морской дали, не то из чащи корявых сосен с покалеченными ветками, я не совсем понимал откуда, вдруг донесся странный звук. Быть может, мне всего лишь послышалось, но это все-таки был звук сямисэна. Хватающий за душу звук, который внезапно исчез, а сейчас вновь послышался, конечно же, принадлежал сямисэну. В прежние времена в Нихомбаси, когда по вечерам под теплым одеялом я засыпал рядом с кормилицей, прижавшись к её груди, с улицы часто доносились эти звуки. «Тэмпура хочу поесть, тэмпура хочу поесть» – эти слова кормилица всегда вплетала в мелодию сямисэна и напевала их вполголоса.