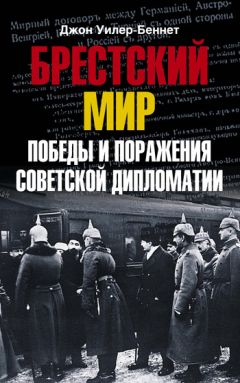Катерина Кузнецова - Вырванные страницы
Ее тут нет и не должно быть. В условиях обозначено: живу в другом месте с иной женщиной, что кое-как соответствует в недавнем прошлом и скромно обозримом будущем. Здесь же однозначно и ненадолго сошлись по слабости, тем и толкнув нынешний, вполне настоящий, окончательный разрыв. Трудно указать конкретно, составить стройный непротиворечивый список причин, заставляющих меня искать воспоминаний о ней, но не ее саму. Может, надо слать проклятия в адрес утратившего свежесть возраста и шедшей отдельно жизни или винить ЖКХ, что принуждает обращать внимание и пусто раздражаться из-за сезонной ерунды, вроде тех метелей. Мало ли какие оправдания изобретает тщетное сознание, спустившее веру, надежду и все такое, практически способное исключительно предупреждать и лишь изредка — решаться. Скажем, все-таки включить свет в этой чужой квартире. Задышать еще тем самым воздухом.
Кем-то прибрано, а глаз и рад обмануться утвержденной стерильностью, мнимым отсутствием следов и броских намеков. Стоит же поискать, я естественно найду, обнаружу остатки бывших совместно и полно, вполне и поныне, бережно собранных за неповторимостью, беглых мгновений. Мы здесь с ней пили. Чтобы прикрыться, защитить предлогом в таких случаях обнаженные чувства и нервы, объяснить вырвавшиеся из тяжкой неволи признания и заткнуть реальность.
Впрочем, не уверен, кого я предал: ту, которую любил здесь или ту, с которой живу? Вообще-то, постоянно думаю о ней, о своей намеренной утрате. Да. Она сидела и заметно дрожала, улыбалась моим выдающимся сентенциям, все понимала, наверно. А я не особенно сопротивлялся, в том смысле, что забыл изобразить удивление и оскорбленное достоинство, уверенно первым ее касаясь.
Она и сейчас со мной, рядом, сколько бы ни проповедовал физического избавления от близости, ни заменял мысленно имя оглушительным «Нет!», ни пытался таким очевидным временем покрыть ее сильные карты. Помню, Господи, знаю ее во всем насмешливом бесстыдстве ей принадлежащей красоты, что следует отыскать и разобрать жестоко на частности, отдать иным по чуть-чуть, и забыть, наконец, на искомое «всегда». Ничего не слышу, кроме плеска в стакане, столкновенья льдинок, да сердце барабанит гулко и ритмично, шаманские пляски отравленной крови в жилах.
Черты и очертания, крутые, плавные тела изгибы, и руки еще хранят гладкость, и ее запахи, и вкус незнакомый, волосы разметанные, спутанные, бесконечные. Наваждение мое, игрища тусклого, лениво лоснящегося по простыням света, почти осязаемо является, и я все отрицаю перед собой, ибо так быть не могло, не с нами.
Такие инаковые, нездешние кошачьи вопли затопили маленькую чужую спальню, от них попросту некуда деться. Оказалось, она, уходя, не закрыла окон. И захотелось, чтобы болела голова, в качестве причины задержаться немного, отлежаться. В районе моего изношенного перикарда робко затрепетало что-то похожее на неизбывную к себе жалость, затем помножилось на дружественное и дорогое отчасти отчаяние. Как ни крути, а откровенно светает. Пора, конечно, давно пора.
36
А так не желал просыпаться. Барахтаться бы увлеченно и далее в разорванных, после сызнова, как придется, переплетенных, пылённых тряпицах собственного сознания, сыскивать в ненастоящих, нищенских, поблекших остатки прогаданной сказочной роскоши. Бессвязные, балаганные, горячие и лишающие покоя, как лоб больного ребенка, мои сны мне так отчаянно дороги, не отдам и пяди за все, что желают предложить чем-то состоятельные. В них порой иногда, страшно не часто, но да забредет, заблудившись, она, и то тут же сбегает, будто чего испугавшись (м. б. убогости приюта?), не то по-хозяйски, чуть развязно войдя, допускает до продолжения наше прозрачное свидание. Однако вполне реальный глаз по инерции вцепился в спасательный круг чернеющей среди безбрежно серого потолка кромки люстры, вдох беззаботно пошел по поверхности, и всяких мыслей набежало, как на восточный базар народа.
Тысячная песчинка, незаметно царапающая стекло мирозданья, я перекатываюсь между глубоких морщинок согретых простыней, ищу ощущение себя, прежде чем отважиться встать на ноги, салютуя эволюции. Последняя в этом смысле революции не лучше: обе кудесницы требуют огромное количество расходного материала, а в итоге дарят окружающей редкостных тварей. Щедро сыплю подобные искусственные жемчуга, они же разбегаются и пропадают в тени изобретенных утренних забот и дел, лишь бы поскорее оно истаяло, время убыточное и неестественное, грубо и торопливо врезанное в выносимые сутки. Обыкновенно я ведь не занят блаженством ближнего. Обыкновенная первая сигарета мне об этом напоминает, ловко щекоча дымом сухое горло, заставляет тихонько прокашляться и ощутить что-то, кроме приобретенной задешево тоски о ней.
Точно новый герой Еврипида, совершенно какой есть, нанизываю дни, блестящие ослепительным солнцем августа, как чешуя золотой рыбки, столь же, впрочем, и скользкие, и неуловимые. Там, в рафинированных трагедиях умели ждать и ненавидеть, не притворяться сложнее, чем есть, они знали ответ, и исполнялись волей своих богов. Все с теми же нотами в праздничной песне сатира, в тех же доспехах охочусь за гибельным роком, пытаясь купить судьбу у чуть располневшей нимфы в метрополитене, и проигрываю Тесею — та волшебница не любит до безумия, увы мне.
Наскоро лишь набросала мои бесприметные берега на карте собственной судьбы и продолжает экспедицию, я же остался, меня омывает чистое море жизней, оно-то знает, где нынче она, да разве его вечный, бегущий язык разберет мой неподвижный кусок заброшенной, ничьей земли? Даже жара, искусно покрывающая плотной, тут же застывающей глазурью сползший с этюдника город, усыпавшая его улицы сахарной пудрой пыли и боли, не лезет мне под кожу, не раздражает.
Я привык пропускать их сквозь себя, осуществляться по факту, без воды, без единственной, без будущего. И давно позабыл, какие потребности имею, без чего не могу. Все прошло. Было, подумывал о другой, ожидаемой смерти, тем и избавился. Что в ней? Ни гарантий, ни возврата, ни вечной красоты — та же самая ставка на надежду и мгновение, что при этой жизни. И потому сегодня совершал, работал, был тем бокалом, что наполняла обильная пена сладкого шампанского деловой суеты, праздничного атрибута будней, и заботы лились через край договоренными словами, и казалось, как во хмелю, я наполнен, и не зря, и стою хотя бы денег. К вечеру бурная пена истлела, деятельное вино выдохлось, горчит легкой головной болью, и пустота укутала меня с материнской нежностью.
Ерзает по нёбу ненадоедающий вкус табака, завлекает страждущих таблеткой аспирина луна, и ссыпана как попало по небу аскорбинка звезд. Фонари давно погасили, и убрали громкость. Нужны ли иные лекарства, после бессчетного, одинакового с предшественниками, дня? Есть в подобии и некое очарование, простота, принадлежность к вечному порядку, и, случается, чувствую на щеке жгучий поцелуй времени. О, оно воистину ко мне неравнодушно, сжимает всего, мнет, придает чудную форму, изменяет опять, ищет стиль. Оно оставило мне нетронутой только ее, чтобы в разомкнутой дальним светом темноте, она танцевала на краю моей полустертой памяти, мерещилась на мгновение и разливалась по груди теплым медом надежды. Иначе бы потерял, а так помню обоих — ее и время без нее. Этой ночью они не вернутся.
129
Посвящается очереди.
Должно быть, уже более грустное, талое утро, чем отчаявшаяся, мраморная ночь. Тени, что столько часов с нежностью плавно скользили по открытым плечам, бледнеют, тонут в сыром предрассветном воздухе, торопливо седеющем, густом, почти непроницаемом даже для настойчивого освещаемого города. Издалека волнами набегает безразборчивый гул прекрасного бытия, то раздражающе набирая силу, то, напротив, почти исчезая, он замирает, и проходит далее, сквозь, этот последыш кем-то верно прожитых минут. Облагороженный сквер, столь же одинокий, как и я в нем, равнодушно приютил наверняка не единственного на его длительной памяти героя, оставшегося без места в романе. Искушенный автор вычернил за ненадобностью мою сюжетную линию, отнял шанс изменить ход действия, подверг забвению целиком. И я здесь, хотя меня и нет, принимаю правила игры, отринув возможность бегства в иное повествование, согласный быть лишь воспоминаниями о самом себе.
Мокрая, мягкая трава ложится под меня, отдавая свой неистребимый сок и запах, едва ощутимый из-за вечного бензинового душка, что часто тактично не замечаешь. Я жестоко сжимаю податливый частокол травинок пальцами, вырываю вместе с землей, мешаю в ладонях до однородной массы, и кидаю измусоленные комья в тоскующую по классицизму урну. И в целом, надо мной, распластанном наподобие свежего трупа на столе у патологоанатома, смыкаются кроны огромных застывших деревьев, что дарит мне искусно и со строгим вкусом возведенную усыпальницу, этакий природный склеп. Я не развлекаюсь, но нуждаюсь в объяснении. И чувствую, как обильно по гладкой, теплой спине ползет холодный пот, призывая плотнее к телу импровизированный саван из дорогой сорочки.