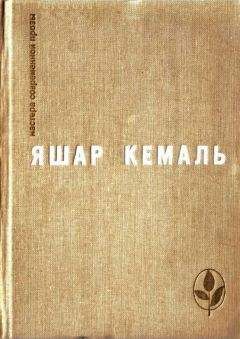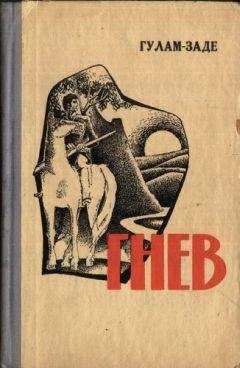Кемаль Бильбашар - Джемо
Окончились сборы. Подошел я к Джано на прощанье руку поцеловать.
— Смотри в оба! — говорит. — За каждым камнем, за каждым поворотом — враг!
Обнял я Джемо, а она как во сне.
— В добрый путь, курбан…
Голос еле слышно, на шепот сбивается. От того шепота опять у меня в груди заныло.
— Счастливо оставаться, Джемо! Я мигом ворочусь…
Не дожидаясь ответа, уселся я верхом на мула и поехал, не оглядываясь. Если б оглянулся — сердце бы разорвалось от жалости.
Слышу — песня Джемо мне вслед несется:
Большая любовь — к разлуке большой…
Не принесла мне эта поездка барышей. Скотоводы свою скотину на ярмарках спустили, тихо в оба, Дерсима не узнать. Народ сумрачный стал, глаза голодные. Сам видел сколько раз: раздробят люди камнем горсть ячменя, поделят, едят.
Рядом османцы трудятся, горы, как Ферхад[42], сокрушают, дорогу прокладывают. Дерсимцы глядят на них исподлобья, рты на замке.
Разговорился я с одним старым ашугом.
— Не ко времени ты торговать выбрался, — говорит. — Нам нынче не до колокольчиков. Последние гроши на оружие тратим. Одни маузеры ходко идут.
— А с чего это?
— Да не с хорошего житья. Османцы новый закон объявили, землю у нас отнять собрались. Неспроста они в наших краях дороги прокладывают. Солдат тьму нагнали, знать, разделаться с нами замышляют, под корень извести. Сейиды кругом ходят, народ на османцев подымают. Добром это не кончится, помяни мое слово.
Смотрю — и впрямь не с руки мне в такую пору свою торговлю открывать, поворотил обратно.
Еду с оглядкой, слова Джано с ума нейдут. Свернул в ущелье Тужик, чтобы путь срезать, — засада. Первая пуля в мула угодила. Рухнул он наземь, я вскочил, за скалу схоронился. Гляжу из-за камня — двое против меня. Ружья через дуло заряжают. А у меня при себе, слава богу, маузер. Палю в них без передышки. Одного свалил, другой сам сдался.
— Помилуй, жертвой твоей буду! — кричит.
Ружье бросил, руки вверх поднял.
Подхожу я поближе — оба незнакомые. Один уж дух испустил, в левую бровь ему пуля вошла. У другого спрашиваю:
— Ты откуда взялся, сукин сын? По своей воле разбойничаешь или нанятой? Зачем вы меня убийцей сделали?
— Смилуйся, пощади! С голодухи пухнем, дети плачут. А тут от аги человек прибыл, два мешка муки привез — согласились.
— Это какая же тварь вас на это подбила?
— Я не спрашивал.
Размахнулся я прикладом.
— А ну, говори, падаль! У тебя Азраил за плечами, а ты все брешешь. Пристрелю как собаку!
Тут смекнул он: со мной штуки плохи, развязал язык.
— Сорик-оглу, — говорит.
Ну, так и есть. Он, собака! Кто еще до такой хитрости дойдет! Убьют меня в горах Дерсима, на него и думать никто не посмеет. Тамошние разбойники на деньги польстились, и весь сказ!
Глянул я на мертвеца — парень во цвете лет. Из-за этого нечестивца Сорика-оглу я такого молодца загубил!
Велел я другому разбойнику яму вырыть да похоронить своего товарища как подобает.
— Брось, ага! — говорит. — Стервятникам на корм пойти — вот что ему подобает.
— Что, много грехов за ним?
— Много. Пятнадцать душ на тот свет отправил. Меня угрозами в разбой втянул. Собираемся мы нынче в засаду, он зубы скалит: «Дядю его я в озеро спустил, а племянника в ущелье уложу».
У меня мороз по коже пробежал. О всевышний! Моей же рукой ты убийцу дядиного и покарал!
— А что он с дядей не поделил? Дядя — бедный ашуг, в жизни мухи не обидел.
— Почем я знаю! Залегли мы, ждем. Вдруг песню твою заслышали. Он меня в бок толкает: «Тот тоже с песней смерть принял! Сел у озера и давай песни голосить, пока я его поленом не огрел. По себе сук руби! Не гонись за шейховой дочкой!» Я его тогда спросил, про какую дочку он толкует. А он мне: «Про дочку того самого шейха, что меня с ашугом разделаться нанял».
Вай, подлец! Вай, нечестивец, белая борода! На деньги польстился, божьего человека смерти предал! Правду, знать, тетушка про шейха говорила, а я еще ей не верил! Совсем обалдел я. Стою бормочу проклятия, а то мне невдомек, что не брат родной со мной толкует, разбойник отпетый. Поднял он здоровенный камень с земли да сзади мне на голову и обрушил. Потемнело у меня в глазах, потом сверкнуло что-то, словно молния с треском ночную темь прорезала, и земля поплыла под ногами. Больше не помню ничего. Тяжкий сон на меня навалился. Чую сквозь сон, как убийца меня за собой через горы к Сорику-оглу волочет…
Увидел меня Сорик-оглу — загоготал дико, горы зашатались. Приказывает своим людям огромный костер разложить, меня заживо в нем спалить… Вот уж сухие ветки в костре трещат. Сорик-оглу огненную бороду оглаживает.
— Кидайте его в огонь! Огонь все очищает. Пусть сгорит дотла, чтоб и пепла от него не осталось!
Вот уж пламя красными языками мое тело облизало… Жир с меня плавится, на огне трещит. Подставили под меня медное блюдо — жир в него закапал. Как наполнилось блюдо до краев — Сорику-оглу передали. Глаза его, как у Зебани[43], искры мечут. Взял блюдо с шипящим маслом, стал мне масло на раны лить…
Перед ним Сенем стоит, на руках дитя держит. Плачет, убивается:
— Уж лучше сожги его сразу. Зачем тебе его так мучить!
Как мне на рану жир кипящий упадет, так от боли туман глаза заволакивает, ничего не вижу… Опомнюсь, открою глаза — костер все бушует, языки пламени мое тело все лижут. Люди Сорика-оглу не переставая в огонь сосновые ветки, верблюжью колючку подбрасывают. Колючки мне прямо в раны впиваются, а пламя все выше и выше… Вот уж до костей моих добирается, сердце жжет. Пить! Пить! Сорик-оглу подносит мне к самым губам ведерко с водой, а только я соберусь глоток сделать, отводит его, воду на землю выплескивает и хохочет громовым голосом…
Сенем глядит на меня, слезами заливается:
— Очнись, Мемо! Соберись с силой! Разорви огненное кольцо! Ты меня убил, теперь оживи.
Язык у меня во рту разбух, не ворочается. Силюсь я выговорить: «Меня Сорик-оглу душегубом сделал… Молодой был парень, я его убил… Но не смотри, что молодой. Он, гиена, кровь моего дяди выпил…» Хочу языком поворотить, а он уж весь пламенем объят, не слушается…
Дитя на руках у Сенем все плачет. И Сенем вместе с ним надрывается:
— Не оставляй его сиротой, Мемо! Смотри, как он плачет! Встань, утешь его!
Хочу я сказать: «Джемо бесплодная… нет у нее детей…» — из глотки один храп вырывается…
Пламя уже к небу взмывает. Всего меня охватило. На вершине пламени гроб Вейсела Карани вырос, крышка снялась, святой из гроба восстал.
— Это дитя твое, — говорит. — Я ваш брак благословляю. Ну, вставай из огня, прижми дитя к своей груди.
И руку мне протягивает.
— Ухватись за руку!
Собрал я последние силы, ухватился за его руку, рванул он меня и вытащил из пламени… Открыл глаза — я в большой пещере. Голова обвязана, все тело горит, язык сухой, как подметка. Вокруг меня люди толпятся, охают, причитают.
Застонал я.
— Пить!
Смотрю — Сенем надо мной склонилась. Плачет навзрыд, плечи ходуном ходят. С радости иль с печали — не разобрать. У входа белобородый сейид стоит. Заслышал мой стон, подбегает ко мне с ведерком — пей! В ведерке айран. Отпил я глоток — прохлада по телу пробежала.
Погладил сейид Сенем по голове.
— Не плачь, курбан. Клянусь имамом Али, джигит порвал свой саван. Теперь его жизнь в твоих руках. Корми его медом, сливками — за месяц на ноги подымется.
Однако поднялся я на ноги только к концу второго месяца. Крепко отделал меня разбойник. Когда я ничком падал, он мне еще спину кинжалом в трех местах пропорол. Снял с меня кровавый кафтан, забрал маузер, кинжал и был таков.
Люди Сенем на меня в горах наткнулись. Увидали рядом поклажу с колокольчиками. Знать, я и есть тот самый мастер по колокольчикам, кого Сенем им искать велела. Побежали к ней.
— Нашли мы какого-то литейщика. В ущелье лежит. Весь в крови, помирает.
Как глянула на меня Сенем, стала причитать, волосы на себе рвать.
— Ах, Мемо, лев мой! Джигит мой! Такого ли я тебя чаяла увидеть? Кто же на тебя руку поднял?
Велела отвезти меня в пещеру — родовую молельню. Погнала конника-гонца за самым искусным сейидом-врачевателем из рода курейшитов[44]. Сейид прибыл, раны мои пощупал. «Да почиет над нами дух Али! Да пребудет с нами милость двенадцати имамов». Проговорил он это, засучил рукава, окропил раны горячим жиром, перевязал тряпицей. А сам без передышки то молитвы творит, то Сенем утешает: «Не изводись так, курбан. Огонь для раны — бальзам целебный. Побушует в теле — раны высушит».
Две недели я в память не приходил. Мне губы разжимали, молоко в рот силком вливали. Две недели надо мной Сенем плакала-надрывалась, помереть не давала: «Встань, пробудись, Мемо. Не оставляй меня одну плакать над твоей могилой. Дай на тебя живого насмотреться. Глянь на сына своего! Не оставляй его сиротой. Очнись, Мемо!»