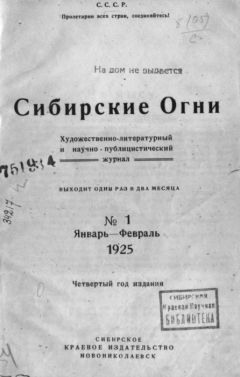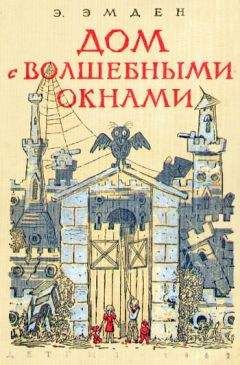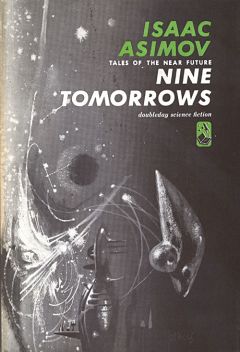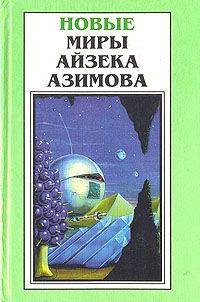Исаак Шапиро - Черемош (сборник)
А на собраниях не уставали распинаться, что скоро-скоро будут фонари на улицах, лампочки будут свисать с поперечины, жизнь станет другого колеру, столько ждали – еще подождем! И так уже свыклись с этим долбежом, что если бы докладчик по нечаянности пропустил страницу, не вспомнил про электрику, то странно было бы слушать и даже тревожно от непонимания.
Назавтра, конечно, от ворот к воротам полетели бы заполошные слухи и все село на завалинках извелось бы догадками: ох неспроста вчера промолчали насчет лампочки…
И может, от зряшных пересудов раскачались бы на письмо, особо те, кто на железке служат, они смелей и в грамоте ловчее. Накатали бы в газету или повыше кому, в том виде, что двадцать лет ждем, тихо ждем, не жалуемся. И еще ждать согласны, лишь бы обещали. Но в этот раз, почему-то не услышали, как жить будем при фонарях. А многие открыто думают, что нашу энергию спер к себе колхоз «Шлях до коммунизму», их председатель мастак по части зажулить, думает за своих людей. А мы, как примаки, воду в рот набрали, ходим по улицам без света, хотя от района стоим в пяти километрах по спидометру.
Так и сказать в цидульке: мы не жалуемся, не из таких. Между прочим, всегда голосуем за, но кому положено, чтоб обратили сюда внимание: живем в темноте, как тараканы. Никакой видимости. Хоть глаза клади в карман. Одно спасение – луной пользуемся. Свет у ней бесплатный. Но сидит луна высоко, в наших порядках не разбирается, сегодня вышла, а завтра настроения нет… Это дело? Ведь мы по космосу давно всех переплюнули, теперь пора по фонарям заплевать!
Но если подчиниться правде, то рассуждения насчет письма – чистая фантазия, голый ноль в практике, – не было такого случая, чтоб начальство обмишурилось, не козырнуло скорым электричеством, в том плане, что старается для народных масс. Начальство не тютя, с радостью отбарабанит, какие блага покатятся по проводам да сколько веселья получит каждая душа, когда протянут под крышу живой ток.
– Телевизор смотреть будете заместо кино!
Дремливое собрание пропускало эти посулы поверх ушей, но иногда кто-то с задних скамей бросал вслух:
– Манька ноги расставит – ото тебе телевизор!
И сразу спадала сонливость, оживали хаханьки и всякие суждения.
– А у ей телевизор на ремонте…
– Ничего, потерпишь. Абы антенна стояла!
– Да на его дышле воду возить можно!
– Тфуй, скаженные! Одно паскудство в голове!
Так шутковали до правленческих ворот, «до брамы» – говорят здесь, и без долгих прощаний расходились, исчезали во тьме проулков. В ночной тиши слышно было, как возле плетня шуршала струя, скребла по проволоке собачья цепь и дворняга кротким визгом встречала позднего хозяина.
А когда зрелая луна отбеливала дорогу и освещала каждый камень, где он занимает место на земле, когда виден насквозь простор плоской толоки и скаты крыш светлы, будто навощены, и всякий листок держит каплю луны, то кажется, нет надобности в лампочках, и разговоры о них – потерянное время.
Но однажды пополудни, незадолго до выборов в местные советы, по улицам протарахтел колесный трактор, кидая в небо сизые баранки дыма. С прицепа двое рабочих покатом сгружали столбы, и те гулко ударялись оземь.
Народ глазам своим не верил.
Но столбы – вот они, смирно лежат вдоль кювета и номер казенный на них, и это уже не байки, а деревянный факт. По восемь метров каждый. С какого конца ни мерь, восемь получается. Просохлые, годные…
По утрам рабочие «Сельэлектро» располагались обстоятельно в холодке ближайшего плетня, ставили в затишек ведро воды про запас, накрывали пупырчатым лопухом и, приспустив веки от удовольствия, задумчиво дымили сигаретками. Они охотно разговаривали с прохожими на разные темы, расспрашивая попутно про холостячек и разведенных. А в промежутке меж перекурами, поплевав на ладони, копали ямы для столбов, умело выворачивая наружу бурую землю. Тень от деревьев украдкой пересекала дорогу, выползала из кювета и к трем часам самовольно ложилась на соседний огород. За рабочими приезжала «летучка», они неторопливо собирали инструмент, сливали друг другу на руки остаток воды и прощались до завтра с хозяевами холодка.
Глядя на их работу, село пришло к согласию, что при таком старании в близкое время лампочки не загорятся. Только Меланья держалась обратного мнения. В том смысле что может скоро загореться, и очень даже. Особо у кого крыша из сухой дранки. А про соломенную стреху и говорить нечего: полыхнет, как порох. Не зря в газетах пишут: мастера сейчас расторопные, у них в руках все горит.
Меланья – баба вредная, лучше не связываться. Но есть в селе немало таких, что очень даже доверяют: забегают к ней вечерами по делам семейных неурядиц. За десяток яиц, за петушка или другую живность Меланья карты бросает: кому быть с прибылью, кому – с убытком, кому бубновая дорога, а кто – не жилец. Карты правду знают! Они у нее давние, по краям стерлись, а новых она не держит.
Понятно, от Меланьиных слов про крышу сразу пошли волны в светлых головах. Не у всех, конечно, у тех, кто хотел волноваться. Стали на завалинках ворошить примеры, кто и когда от огня не уберегся да как оно бывает, если дотла, до последней головешки, одна зола да железная койка…
Жуткие разговоры. У иных баб прямо сердце захолонуло и слабость по телу. Хотелось не слышать, бежать этих рассказов. Еще беду накличут… А куда укрыться от огня? Где надежный заслон? Хоть сиди по горло в реке…
Правда, многие смотрели на эти треволнения с усмешкой. Но они тоже признавали, что случись огню, пока пожарники расчухаются – тушить нечего. И курящий люд усердно гасил огонек подошвой, втыкал в землю дымливые чинарики.
В один из дней работяги «Сельэлектро» начали рыть на крайнем взгорке. Ткачук пожелал им «Бог в помощь», но голос был неприветлив и взгляд угрюмый – он не любил, когда колупались вблизи его двора. Считал взгорок почти собственным: раз примыкает к его хозяйству – значит, под его началом. Он даже заглянул в яму, что не в его привычке, – следил, как заостренная лопата мягко входила в грунт, отваливала ломоть глины, а на маслянистом срезе оставалась неглубокая бороздка от черенка.
«Такую сальную глину и продавать не грех… Плати, если кому подлогу[65] мазать», – подумал Ткачук, и эта полезная мысль ослабила его недовольство.
До праздника осталось совсем ничего, когда по улицам села встали столбы. Выстроились вереницей, друг за дружкой, как милиция, а народ должен стороной обходить их.
Вот Юрко не пожелал обходить, и заработал шишак. Во лбу вроде синей сливы торчит. Смотреть страшно. Две недели прошло, а шишак на месте… Юрко в магазине за стакан вина давал желающим убедиться, что гуля не приклеена, хоть ведро не нее вешай. Он даже в райбольницу ходил, может, резать надо, чтоб наука изучала. Очень надеялся: под шумок инвалидность определят, а может, и пенсия улыбнется. Но врачи обстукали череп, помяли выступ, говорят: «Держись, парень! Уже были в медицине случаи, когда рога вырастали, ты не первый…»
Юрко жаловаться хотел на «Сельэлектро», но приятели отсоветовали: не заводись, говорят. Столбы не обучены, кого стукнуть, а кого не надо…
И еще от этих столбов разлад в семье бывает. К примеру, Ваньця Лозовик всегда дорогу домой помнил. В любом виде знал, куда идти. Закроет левый глаз, чтоб стежка ровнее казалась, наклонится вперед и тащит сам себя за шкирку. Это Верка, баба его, приучила, чтоб не куковал ночами, где не положено.
Однако промашка случилась: задел плечом за столб – без ущерба, но развернуло Ваньцю против его желания и повело в обратный путь. Наутро проснулся под чужой огорожей, в будяках. Обидно, конечно, тем более что Верка гармидар[66] подняла по дикой ревности. Хотя Ваньця ей ясно показал, что нет его вины, будяки свидетели. Не поверила, стерва. Зато и ходила всю неделю с фингалом у глаза. А Ваньця лазил на горище ночевать, пока Верка не перепросилась.
А столбы и ухом не ведут, что из-за них переполох среди населения. Ладно бы только у людей тревога, но и у высшего начальства метушня[67] в мозгах и строгие звонки по партийной линии. Оказалось – кое-кто в селе не желает к столбам подключаться. В штыки против электричества. Начальство, понятно, на это желание и смотреть не хочет. На общем собрании вой подняли, а также серьезные выражения про тех, кто неслухи и самовольцы.
Ульяна-председательша кулачком старалась:
– На чистую воду выведу! Хвосты прижмем! Для нас же строят, а вы нос воротите!..
Важный чин из района уламывал собрание ласковым голосом, мол, стыдно говорить, но есть отсталые личности, что света чураются…
Ткачук сидел за чужими спинами. От волнения плохо слышал. Чувствовал – по виску медленно ползет тяжелая капля. Он мысленно упрашивал председательшу забыть его фамилию, не вызывать к столу, пусть лучше вспомнит, как старался, служил ей на побегушках… Вай-ле! Он представил себе, что стоит у стола с красным сукном, переминается как стреноженный, все ждут, что он скажет, но слова пропали неведомо куда, правда, вертится привычное «курва ее мама», но не ко времени, хоть провались со стыда за свой одеревенелый язык. И от этого воображения он еще ниже горбился, а на голове, где сошел волос, блестела розовым испарина.