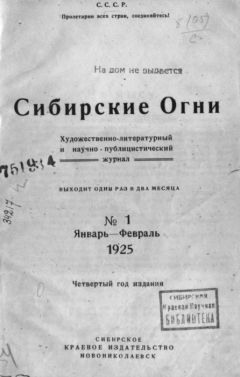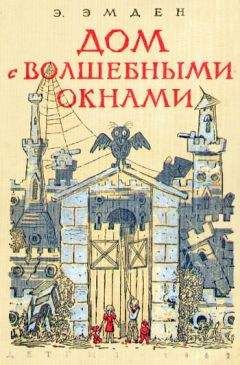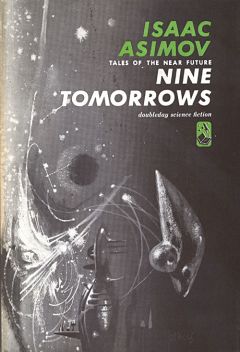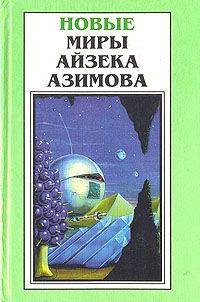Исаак Шапиро - Черемош (сборник)
Ткачук озлился от ненужных раздумий. Еще накаркает себе гостей! Ему гости – как чирей на потылице! Ему что важно? Абы в горах дожди упали, реку чтоб раздуло и гребли пошли с водой. Земле, конечно, урон. Зато людям работа есть: берега крепить. А на работе калым всегда найдется.
В бригаде – одни лайдаки, сами в холодке сидят, карты мусолят, а ты, старый, трясись по ямам, за всех старайся. Игий на вас! Не иначе Господь шепнул Ткачуку: покажи дорогу в карьер! Они в подкидного штаны протирают, а Ткачук с прибытком вертается, вот она, свежая гусятина…
Обратный путь прошел не тряско, вроде грунтовка зализала рытвины. А сторонние размышления так отвлекли Ткачука от придорожной местности, что не успел вдоволь додумать насчет даровой птицы, как машина загальмовала[60] возле его ворот.
Ткачук слез на землю. Птицы остались в кузове. За бортом скрылся и его желанный гусь. Ткачук потерянно глянул на пустые ладони. Подумал: зря с машины поторопился. Где не надо, там он проворный. Теперь жди-гадай, что будет. Он здесь, а гусь – там, и никакого меж ними касательства.
Яша срочно пристроился к борту, мочил колесо.
Ткачук отвел взгляд и нетерпляче переминался на месте. Кто их знает, эти улыбчивые на все горазды: к дому доставят – и бывай здоров!
Яша напрудил сколько следует и с облегченным настроением подошел к Ткачуку, застегивая ширинку. От неизвестности у Ткачука тряслись пальцы, кивал в сторону дома, подмигивал, чтоб зашли.
– В другой раз, вуйко Тодор. Времени нет. Открывай хату, быстро!
Ткачук послушно поспешил к порогу. Впопыхах дольше обычного хлопотал над замком. Наконец трижды повернул ключ, дверь заскрипела, и Ткачук встал посреди комнаты, без понятия, что делать дальше, если они пить не хотят…
– …Тодор! Тодор!
Яша уже сидел за рулем, показывал пальцем на фортку. Машина заработала и, не дожидаясь Ткачука, тронулась на выезд. Яша скалил зубы, что-то крикнул сквозь шум и прощально поднял руку.
Ткачук понуро спустился к воротам. От так! Обошли его, надули, глоты! Все себе захапали. Да чтоб вам на радостях кость поперек горла! Облапошили, старого!.. В груди ныла, разбухала обида. Ткачук из-под бровей неотрывно следил за желтым бортом – может, одумаются, кликнут… Но машина свернула в проулок, гул ее слабел, пока не кончился, и над селом опять ожила полуденная тишина.
Накинув обруч из лещины, Ткачук запер фортку. Глянул… и не поверил: у плетня вповалку лежали гуси. Один… два… три… четыре… Господи милосердный! Это же надо… В хату, швыдче! Яша – человек… Дай боже всем…
Соленый туман застил свет. Ткачук вытер кулаком скулу.
Золото
В понедельник Ткачуку приспичило в магазин за дюймовыми гвоздями. Из-за тех гвоздей пришлось ему пустотные разговоры выслушивать. Глаза в сельмаге работой заняты – ищут, что в хозяйстве нужно, зато уши от безделья открыты для всякой чепухи.
В магазине вдоль стенки, чтоб не мешать народу, на казенных ящиках притерлась теплая компания: Юрко, Ваньця и Николай Бумбак. Взяли «Алиготе», дешевле не было. Сидели, видать, давно – Юрко уже в полный голос выступал:
– …Я тебе говорю: у них аппараты научные есть. Берут человека и по его анкете вертают задним ходом к началу.
Усек? Поставят, к примеру, в этот аппарат Ваньцю, так он вниз будет расти.
Ваньцю спор не тревожил – он молчал, ухмылялся, как всегда. А Николай стучал пятерней по ящику, расплескивал вино.
– Дорастет до низа, дальше что?
– Дальше они его в первобытное положение загонят.
– Это как понять? Матуше в пузо? У Ваньци она давно померла, куда его деть?
– Ото непонятно! Они его в зародную соплю превратят. В аптеке держать будут, для общего пользования. Я тебе говорю: привезли аппараты. Из Германии. Уже в области есть.
– Где такое вычитал?
– Хе, в газетах не напишут. Ты, Никола, председателем был, сам знаешь – на закрытых собраниях, для узкого круга. Чтоб ни-ни-ни…
– Да кто тебя в узкий круг допустит?
– Пока не был, врать не стану, но начальство там ошивается.
– Ну?..
– Вот и ну! Начальство рыбку уважает…
Купив гвоздей, Тикан немедля вышел из магазина, чтоб Юрко не чеплялся – мол, дела на греблях идут распрекрасно, вода все спишет! Балабол поганый! Такое на людях скажет, паскудняк, – слушать нечего, одно расстройство… Игий!..
Но тамошний разговор в ушах завяз, и по дороге домой Ткачук перемалывал слышанное, дивился людскому неразумью. Зачем, спрашивается, человека гонять в прошлую жизнь? Неужто одного разу мало? Снова мытарить?
Ткачук примеривал по себе и твердо знал: ни за никакие уговоры не вернулся бы к минувшим годам. Чего там не видел? Хворая Параска, опять же – война, немцы, Советы, и снова гнуть спину за гроши. Сколько себя помнит, всегда в скудости. Весь капитал, что Бог отпустил, – две долони да широкие плечи. И только сейчас, к старости, как взяли гребли строить, впервые завелись деньги. Прежде, бывало, трояк по соседям христарадил, а сейчас – не сравнить, у самого сотенные в узелке, абы не сглазить!
Чего теперь прошлое пережевывать и жалобиться? Все одно что пить из пустой кружки. Значит, выпала такая доля, это сверху идет, нечего перечить. Но если без уловок, как на духу, то правды здесь – наполовину. Перед собой хитрить негоже. Верно: достатка трудом не накопил, нужда по пятам принюхивалась, но что богатства в руках не держал то враки, проще сказать – брехня. Бог правду знает! Было у Ткачука богатство. Больше, чем в целом селе. Вспоминать не хочет, но было.
В войну разжился.
Как взяли его в сорок четвертом, выучили наскоро военной науке, в какую сторону целить, – и ходом на фронт. Но в окопы, слава богу, не послали. Видно, не доверяли: оно понятно – три года под немцем пробыл. По этой счастливой причине определили его в хозчасть – и сытно, и пули не часто над головой вжикают.
Ткачук ценил свою службу, с начальством был робок и без отказен. И со служивыми держался настороже, даже угодливо, хотя помыкали им нечасто. А когда чернявый Ганжиев наступил на мину, Ткачука повысили в должность ездового. Дали упряжную пару и повозку Ганжиева.
Слова сами просились рассказать про тех лошадей. Старший лейтенант почему-то выдумал кличку «першероны», но чужое слово не прижилось. Ткачук называл их любовно – голубчики! Они не виноваты, что родились у фрицев.
Таких битюгов Ткачук больше не встречал: страшенного роста, дюжие и смирные, Ткачуку под стать. У них на груди бугры перекатывались, будто гарбузы в мешке. И ноги, по словам Ткачука, стояли словно столбы, с волосатыми бабками, для солидности. И копыта, верь не верь, в размер сковороды, добро что сами-то не брыкливы. Но прочие ездовые в этих конях сомневались, не доверяли прусской породе, оттого и досталась та пара Ткачуку.
А с повозкой была история темная, Ткачук все годы таил, не выболтал. Старался не бередить старую боль. Это разговор в магазине принудил вспомнить.
Дело в том, что на дне повозки секрет имелся. Ткачук чистил запустение и в скрытой пазухе под ветошью надыбал немецкую сумку из мягкой кожи. А в сумке – божий подарок! – часы разного сорта, кольца золотые, медальон с ангелом, крест нательный с цепочкой… Сущий клад! Услышал Господь, за все худое в жизни враз наградил!.. Счастье, что никто рядом не стоял, в напарники не набивался. У Ганжиева, чучмека, глаза узкие были, знать, на золото острые! Вот только мину не приметил…
Ткачук и не думал отправлять находку домой: ясно, что на почте шуруют в посылках. Да и на Параску нельзя полагаться, бабья натура – сорочья, растрезвонит кумовьям: а то как же, свои люди…
Ткачук приладил к сумке ремешок и носил ее на голом теле. Даже в бане уходил в дальний уголок от чужого внимания. Словом клятым заклялся не развязывать ремешок, пока свой порог не переступит.
Смущала сумка, блазнила на грех – пополнить ее. Ткачук поначалу самой мысли пугался – ну ее к бису! – хватит того что есть! Но как-то раз, в обгорелом доме увидел труп немца. Вокруг случилось в ту пору безлюдье… Не выдержал Ткачук искуса, перекрестился и, не дыша, стал проверять, какие вещи мертвяку уже без надобности.
Сперва при таких осмотрах Ткачук зажимал себе ноздри – что ни говори, не свата встретил. Но со временем, свыкся к запаху, к стылой коже, свыкся и не переживал. Зато сумка тяжелела от дивной начинки.
Лишь однажды промахнулся. Но это не в счет. Легкий конфуз потерпел взамен трофея. Заметил как-то Ткачук: лежит в лесу солдат – вроде совсем задубелый. Пристроился снять часы, за браслетку дернул, но вдруг этот тип глаза открыл, в упор пялится, будто спросить хочет. Ткачук не стал дожидаться вопроса. Бежал поверх земли – только зубы тарахтели. А когда, бессилый, свалился передохнуть, оказалось, что в штанах сырость. Опоносился. И не такое может случиться, если покойник имеет к тебе вопрос… Он, злыдень, свой срок закончил и живых стращает со скуки. А часы у него на руке остались, нехай время смотрит, если интересно…