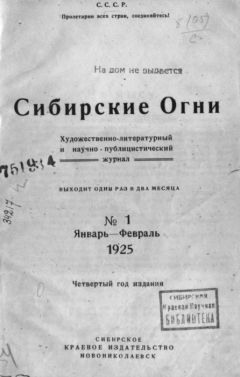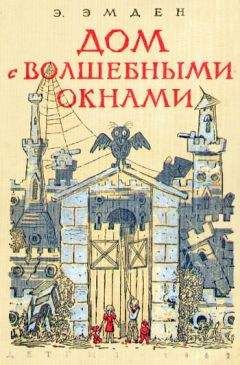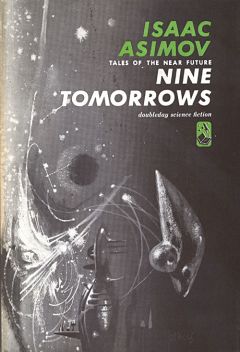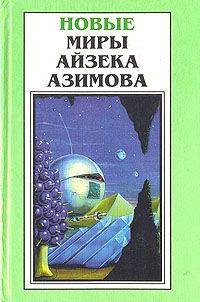Исаак Шапиро - Черемош (сборник)
Ткачук знал свой характер, был уверен, что не сможет ответить в упор, как Меланья, – та сказала негромко, однако слышали все:
– Звиняйте на слове, но в своем дворе – я газдыня.[68] Понятно?..
Другие тоже нашли увертку, говорили:
– Столько жил – менять не буду… к керосину привык…
– От электрики в потылице свербит!
– Провода загорятся – не погасишь! – размахивала руками горластая Домна. – Не треба их свитла! До дидька! А кому що не так, нехай поцелуе мене…
Юрко с места выступил:
– Насчет электричества – не возражаю, прогресс и культура. Но столбы – это не головой думали. Понаставили их без памяти, а они жизнь укорачивают трудящим, которые пешком, и нашей интеллигенции, кто на машинах. У каждого есть лоб. Даже у партийных. Столб так засветит – до конца дней звенеть будешь. И врачи потом отказываются. На рентген посылают. А это уже не шутки. От облучения все болячки на виду. А человека, говорят, надо беречь! Куда беречь, когда тебе портят физиономию на лице! Короче: столбы надо убрать! – вредные для здоровья! Похуже рыбнадзора…
– Юрко, сядь! – кричала Ульяна. – Трудяга нашелся! Кепку сними! А вы, старые, вовсе с глузду съехали!..
После собрания Ткачук сразу успокоился, даже повеселел. Ульяна умолчала его фамилию, сжалилась, не вызвала на посмехи. Надо будет рыбку ей занесть. Ведь Ткачук тоже отказался, чтоб в хате проводку били. Придумали, злыдни, его жилье переиначить. А ему неплохо как есть. Он привык, что дом встречает его незрячими окнами и тишиной. Привычным стало одиночество в хате, ее кисловатый запах, неприбранная лежанка и редко мытая подлога. Не было ни лишнего часа, ни желания тратиться на эти пустяки.
Зато двор был ухожен, как у справного хозяина: плетень из новой лозы, деревья вапном[69] белены, чтоб ранний мороз не поранил, огород прополот, с ровной не закиданной межой. Что ему от электрики? Картофля родит лучше?..
На взгорке возле хаты заброшенно маячил столб. Ткачук похлопал по звучной древесине. Оглянулся вокруг и довольный, что нет проводов, сказал:
– Зимой, даст бог, спилю.
Со стороны реки слышно было, как мягко трется об землю вода.
Ликер
Несколько дней Юрко дневалил на шоссейке. Машину высматривал. Добро, что погода держалась, помех не делала.
Юрко не из тех, кто против ветра дует. Характер не упертый. Но если загорится какой целью, на нож пойдет, а своего достигнет. На все горазд. Захоти очень, даже дым над крышей уговорил бы вернуться в трубу. Только ему это не нужно. У него в голове другой интерес, по части личного настроения.
Оттого и сидел Юрко у дороги похнюпый, нервно кусал былинку. Раз от разу, завидев нужную машину, он вскакивал, отчаянно размахивал руками, просил остановиться, но они проносились мимо, шелестя шинами, только воздушная заверть ударяла по глазам.
За кабиной тянулось длинное окатное тело цистерны. Издали, на повороте, это было похоже на головастую гусеницу. Юрко долго смотрел вслед машине и вялым голосом, но искренне желал ей встретиться со столбом.
Наконец один шофер поднял бровь и оглянулся на Юркову пляску. Машина притормозила, съехала в тень деревьев.
Обрадованный, подбежал Юрко, задыхаясь, кивнул на цистерну:
– Что есть?
Шофер выставил из окна круглый локоть и, как про обычное, ответил:
– Ликер.
– Ого! Дело! Слухай, будь друг, что хошь дам – отлей полведерочка! Курей дам, пшена, что хочешь, а?
– Ну и варнак! Куда мне твоих курей?!
– Хочешь, трос достану! Новый, в масле!
Шофер улыбнулся, подобрел:
– Картошка есть?
Юрко на миг заострил глаз, решительно полез в кабину.
– Свернешь на правую руку.
Встали у дома. Юрко знал, что Маруся еще в поле, но хотел управиться, пока пацанов нет. Спешным ходом ополоскал вед ро, нашел на горище латаный мешок и кликнул шофера. Шофер держал раскрытый мешок, а Юрко без передышки поддевал картофелины широкой шуфлей.[70]
Потом шофер, присев на корточки, мудровал что-то под брюхом цистерны, пыхтел, возился с краном. Юрко тут же, рядом, серьезный от нетерпения – наготове держал вед ро.
Когда струя ударила по звонкому днищу, Юрко с облегчением перевел дыхание и уже не отводил взгляда от золотистой течи.
– Господи, – молил он, – Господи, сделай, чтоб ведро стало выше! Чего тебе стоит!
Вдруг не выдержал, враскорячку приложился к струе и быстро, по-собачьи, стал заглатывать жидкую благодать. Пока не поперхнулся.
Цистерна кончила лить, и Юрко осторожным, коротким шагом отнес почти полное ведро в сарай.
Но прежде чем спрятать добыток, он медленно, с приятностью на лице, окунул в ведро ладонь и расшевелил внутри желтоватый застой. Вынув руку, стал вылизывать, обсасывать каждый палец.
Машина еще не уехала. Шофер, двигая губами, вел какие-то подсчеты на бумаге. Юрко подумал про картошку, что осталась в доме.
– Слухай, – он потянул шофера за руку, – слухай сюда, забирай всё, сколько есть. Налей еще.
В руках он держал черный чугунок.
Перевоз
Ваньця Лозовик на работе не показывался. Он себе на уме, жук болотный: когда с неба ситник мочит или другое безобразие во вред плану, тут Ваньця на берегу, в будке с обществом загорает. А выдалась приличная погода, луг подсох, можно хворост тралевать, каждая пара рук позарез и на учете – он не является.
– Что с ним, кто знает?
– Болеет, – безучастно ответил бригадир, пряча взгляд.
Начальник хмыкнул и справедливо высказался в отношении Ваньциной души.
В обед проезжали селом, и начальник велел Яше остановиться у дома Лозовика…
Рыжий пес остервенело чесал ногой за ухом, при виде гостей тявкнул и приветливо завилял обрубком хвоста. Наружная дверь была заперта. Сквозь окна жилой половины просматривалось безлюдье и обычный беспорядок. Стекла горницы, как бельма, закрыты белыми шторками. Начальник заглянул в стайню, где в прохладной пахучей тьме одиноко нудилась корова. Прогретое солнцем подворье мирно пережидало полдень. Ручная помпа склонила жерло к плоскому камню с выщербой посередке, и даже в этом углублении, где обычно держалось пятно влаги, было сухо.
В тени дерева, на подстилке, сидел младший Лозовик. Из-за раннего возраста говорить по-людски он пока не умел, зато не мигая следил за посторонними. Рядом валялась опрокинутая кружка. Яша накачал помпу и, изогнувшись к гулкому раструбу, ловил ртом пенистую струю. Потом наполнил кружку и поставил возле подстилки.
– Растешь, парень? Ули-ули-ули…
Малый сосал тряпичную колбаску, набитую мокрым маком, какие делают в селе взамен сосок, и серьезно смотрел на свое отражение в темных Яшиных очках. Одна нога его была привязана веревкой к стволу дерева, чтоб дальше тени не уполз.
Начальник нетерпеливо кликнул Яшу.
– Завтра заскочим. Больше чикаться не стану. Гнать его надо в три шеи.
Назавтра в то же время Лозовика снова не оказалось дома. По-прежнему детеныш сидел на привязи и молча слюнявил тряпицу, но было ясно, что хозяин околачивается где-то поблизости: на луженой проволоке сушилась нападка, и в ней в ячейках сверкали свежие осколки воды.
– Ваньця! Ваньця! Иван!
Только куры встревожено подняли головы на этот зов, да пес, понимая, пошевелил бровями. Когда начальник прокричал на весь двор, что аванс привезли, расписаться надо, из горища по лестнице сполз хмурый Лозовик. В лохматой чупрыне его торчали соломинки.
– Спать лодырю помешали, да? – набирался злости начальник.
Ваньця бурчал в ответ, что, конечно, помешали, но не спал он вовсе, делом был занят: семейное дело – святое, а тут во дворе кричат. Чего кричать, когда Верка не пускает. Вот про аванс услышала, стерва, сбросила с себя: иди, расписуйся, писатель… Надо знать, чего кричать…
Ваньця с укором смотрел, как Яша повизгивает, не понимал, что смешного, когда разлад в таком деле. А начальник пытался удержать строгий тон:
– Кончай, Лозовик, дурочку строить! Последний раз предупреждаю…
Сердясь, начальник багровел лицом, хоть прикуривай от щек. Правда, по натуре был он отходчив, камень за душой не хранил, однако тот еще прилипала, когда начинал чихвостить. Зная его слабинку, Ваньця спешил опередить:
– Ладно… чего выяснять?.. Я – наоборот – вас ждал. Рыбку приготовил. А как же… Пошли в хату! Вуйко Тодор! Петруня! – позвал он тех, кто сидел в кузове.
…Темные рыбины теснились в цинковом корыте, устало зевали, будто, предчувствуя близкую беду. Яша заохтал при виде бессчетного улова. А начальник все распекал Ваньцю, грозил принять меры, обещал приструнить, но в речах уже не было ни прежнего азарта, ни твердости намерений. А когда в хату вошла, покачивая бедрами, хозяйка, стал шутейно извиняться, мол, вовек не простит себе, что помешал крепить семейную жизнь, помеха в этот момент – самое вредное для мужского рычага…
Хозяйка кивала на Ваньцю:
– Вы его больше слухайте, он наговорит…