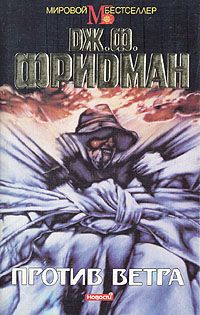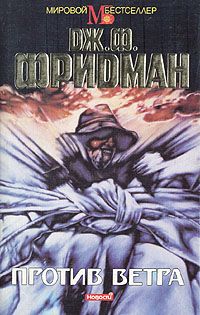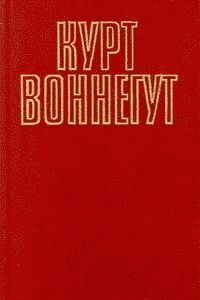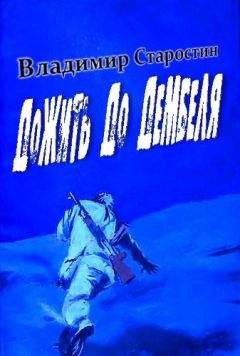Курт Воннегут-мл - Синяя Борода
Так и случилось. Но так хорошо, как в тот раз, больше никогда не было.
Тот большой холст, который мы называем жизнью, никогда больше не поможет мне и партнеру создать в постели шедевр.
Таким образом, Рабо Карабекян создал по крайней мере один шедевр – в качестве любовника. Его, разумеется, никто не увидел, и он исчез с лица земли даже быстрее, чем полотна, которыми я заработал себе на сноску в истории живописи. Есть ли на свете что-нибудь, сделанное мною, что меня переживет, если не считать заслуженного порицания, исходящего от моей первой жены, моих детей и моих внуков?
Разве мне не все равно?
А что, кому-то все равно?
Бедный я, бедный. Бедные, собственно, вообще все. Мы оставляем за собой так мало долговечного.
* * *
После войны я рассказал Терри Китчену о трех часах идеальных игр с Мэрили, и о том, каким блаженно затерянным в пустоте я себя потом чувствовал, и он заявил:
– Тебя посетило богонеявление.
– Что-что?
– Я сам до этого дошел, – сказал он. Это происходило еще в те времена, когда он занимался разговорами, а не живописью, задолго до покупки краскопульта. Если на то пошло, то и я был тогда всего лишь болтуном, увязавшимся за художниками. Я все еще считал, что стану предпринимателем.
– Вся проблема с Богом вовсе не в том, что Он слишком редко удостаивает нас своим вниманием, – продолжал он. – Проблема тут прямо обратная: Он держит нас – тебя, меня, всех остальных – за шкирку непрерывно, почти не отпуская.
Он рассказал мне, что только что провел несколько часов в музее Метрополитен, где на картинах Бог постоянно кому-то что-то указывал – Адаму и Еве, пресвятой Богородице, разнообразным святым, испытывающим мучения, и так далее.
– Если верить художникам, такие моменты случаются крайне редко, но какой же идиот когда верил художникам? – сказал он и спросил у бармена еще двойную порцию виски, за которую я, разумеется, впоследствии заплачу. – Называются они «откровениями», или «богоявлением», и поверь мне, что как раз их-то в жизни – как грязи.
– Ага, – сказал я. Кажется, нас слушал тогда еще и Поллок, хотя мы с ним и Китченом еще не получили прозвище «Три мушкетера». Он уже был настоящим художником, поэтому почти не говорил. Когда Терри Китчен стал настоящим художником, он тоже перестал говорить.
– Значит, «блаженно затерянный в пустоте»? – сказал мне Китчен. – Превосходное описание богонеявления, редчайшего состояния, когда всемогущий Господь отпускает твой воротник и дает тебе немножечко просто побыть человеком. Сколько времени это продолжалось?
– Ну, с полчаса примерно, – ответил я.
Он отклонился на табурете назад и произнес удовлетворенно:
– Вот и я о чем.
* * *
Вполне возможно, что в тот же день, когда происходил этот разговор, я и снял мастерскую для нас двоих у одного фотографа, на верхнем этаже здания, выходящего на Юнион-сквер. Метраж на Манхэттене в те времена стоил гроши. Художники в самом деле могли себе позволить жить в Нью-Йорке! Представляете?
Подписав договор на мастерскую, я сказал ему:
– Если моя жена узнает об этом, она меня убьет.
– Обеспечь ей семь богоявлений в неделю, – сказал он, – и в качестве благодарности она позволит тебе все, что угодно.
– Легко сказать, – ответил я.
* * *
Та же самая толпа, которая убеждена, что книги Полли Мэдисон, авторства Цирцеи Берман, подрывают основы американского общества, рассказывая девочкам-подросткам, что они могут по неосторожности забеременеть – так вот, эти самые люди наверняка сочли бы теорию богонеявлений Китчена богохульной. Но я не знаком с человеком, который более усердно старался бы найти и выполнить задание, предписанное ему Господом, чем Терри. Он мог бы сделать блестящую карьеру в юриспруденции, и одновременно в бизнесе, в банковском деле и в политике. Он великолепно играл на фортепиано, был отличным спортсменом. Он мог также остаться в армии, и вскоре дослужиться до генерала – возможно, даже до начальника штаба объединенного командования.
Но в тот момент, когда я его встретил, он забросил все эти занятия, чтобы стать художником, несмотря на то, что рисовал он, как курица лапой, и даже ни разу в жизни не взял ни одного урока!
– Есть же в этом мире что-то стоящее, наконец, – говорил он. – А живопись – одна из немногих вещей, которые я еще не пробовал.
* * *
Я знаю, что многие считают, будто Терри был способен и на реалистические картины, если бы ему только захотелось их рисовать. Однако в качестве доказательства они предъявляют лишь небольшой участок на том его холсте, который висел до недавнего времени в моей прихожей. Он сам никак не называл эту картину, но ее общепринятое имя – «Потайное окно».
Если не считать этого участка, картина представляет собой типичное произведение Китчена – выполненный при помощи распылителя вид со спутника на красочный атмосферный циклон, или что-то в этом роде. Но на крохотном кусочке, если в него пристально вглядеться, помещена перевернутая вниз головой копия «Портрета мадам X.» Джона Сарджента, в полный рост, включая и горбоносый профиль, и матовые плечи, и все остальное.
Прошу прощения, друзья: авторство этой прихотливой вставки, этого потайного окна, не принадлежит Терри, и не могло ему принадлежать. Нарисована она была по его настоятельной просьбе одним халтурщиком от живописи, по имени – кто бы мог подумать – Рабо Карабекян[56].
* * *
Терри Китчен потом сказал мне, что сам он ощущал богонеявления, то есть, что Господь на время оставил его в покое, только после любовных игр, а также в те два раза, когда он принимал героин.
22
Сводка событий из настоящего: Пол Шлезингер отбыл не куда-нибудь, а в Польшу. В утренней «Нью-Йорк Таймс» написали, что его туда отправила международная организация писателей под названием «ПЕН-клуб» – в составе делегации по расследованию положения его тамошних коллег, изнывающих под пятой режима[57].
Может быть, полякам стоит в свою очередь заняться расследованием его положения. Какому из писателей хуже: тому, которому полиция затыкает рот, или же совершенно свободному, но которому больше нечего сказать?
* * *
Сводка событий из настоящего: вдовица Берман установила точно по центру моей гостиной бильярдный стол, а вытесненную им мебель отправила на склад «Мой милый дом». Не стол, а бегемот какой-то: весит столько, что из подвала его пришлось подпереть костылями, иначе он провалился бы туда, к банкам с «Атласной Дюра-люкс».
Я не брал в руки кий с тех пор, как вышел в запас, да и в армии играл так себе. Но как мадам Берман разгоняет шары по лузам, где бы они ни находились – это надо видеть!
– И где же это вы научились так играть? – спросил я.
Она объяснила мне, что после самоубийства отца она ушла из школы, но вместо того, чтобы спиться или пойти по рукам у себя в Лакаванне, стала проводить по десять часов в день в бильярдной.
Я в качестве партнера ей не нужен. Ей, собственно, партнер вовсе не нужен, как не был нужен, я полагаю, и тогда в Лакаванне. Но иногда, как ни странно, ни с того ни с сего она вдруг может растерять всю свою убийственную меткость, раззеваться и начать почесываться, будто ее кто-то покусал. Тогда она идет к себе, ложится в постель и может проспать до следующего полудня.
Еще ни у одной женщины я не встречал такой резкой перемены настроений!
* * *
Но как же быть с прозрачными намеками, которые я делаю тут касательно тайны амбара для картошки? Она же сможет прочесть рукопись и обо всем догадаться?
Нет.
Обещания свои она держит, а она мне пообещала еще в самом начале, что как только я доберусь до сто пятидесятой страницы[58], если я вообще доберусь до сто пятидесятой страницы, она вознаградит меня, когда я пишу в этой комнате, полным одиночеством.
Она пояснила, что когда я зайду так далеко, если я зайду так далеко, мы с книгой станем слишком близкими друг другу, и ей вмешиваться в наши отношения будет уже неприлично. С одной стороны, конечно, приятно упорным трудом добиться определенных привилегий, признания своих заслуг, так сказать, но вот какая мысль постоянно приходит мне в голову: «А кто она, собственно, такая, чтобы выдавать мне вознаграждения и назначать наказания? Это вообще что – детский сад, или, может, тюрьма?». Вслух я ничего подобного, разумеется, не высказываю. А то вдруг она передумает про привилегии.