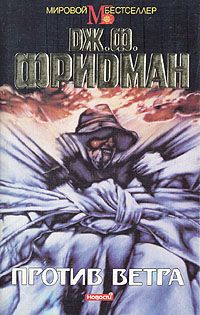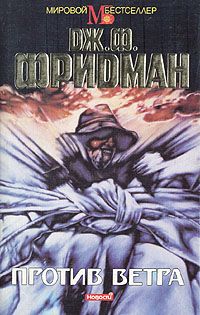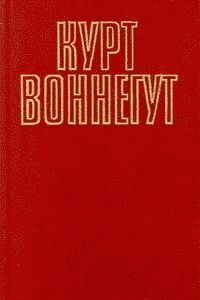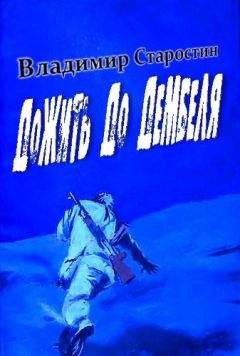Курт Воннегут-мл - Синяя Борода
* * *
– Мне наплевать, на какие картины вы смотрите, – говорил он. – Я всего лишь просил вас не оказывать уважение заведению, в стенах которого брызги, кляксы, мазня, пачкотня, рвота и выделения безумцев, дегенератов и шарлатанов считаются за великие сокровища, достойные уважения.
Сейчас, восстанавливая в памяти все, что он сказал нам тогда, много лет назад, я нахожу трогательной ту осторожность, с которой он, да и любой разъяренный мужчина, избегал в те времена в смешанной компании произносить слова, не предназначенные для детских и женских ушей – к примеру, «ебаный» и «говно».
Цирцея Берман настаивает, что включение ранее табуированных слов в повседневное общение есть благо, так как позволяет женщинам и детям не стыдиться обсуждения вопросов, связанных с телесной сферой, и таким образом более разумно подходить к личной гигиене.
– Возможно, – ответил я. – Но не кажется ли вам, что обретение этой откровенности вызвало также полный обвал в искусстве красноречия?
Я напомнил ей, что дочь кухарки привычно называет любого, кто ей не понравится, вне зависимости от причины неприязни, «жопой».
– И я ни разу не слышал, чтобы Целеста дала разумное объяснение, какие именно действия означенной личности вызвали применение этого проктологического прозвища, – сказал я.
* * *
– Из всех возможных способов меня обидеть, – продолжал Грегори, снова с британским акцентом, – вы выбрали самый жестокий. Я любил тебя как сына, – сказал он, обращаясь ко мне, – а тебя – как дочь, – обратился он к Мэрили, – и вот она, ваша благодарность. И самое обидное даже не в том, что вы туда вошли. Нет, нет. Самое обидное – это с какими счастливыми лицами вы оттуда вышли. Это ваше счастье – не что иное, как насмешка надо мной, и над каждым, кто когда-либо брал в руки кисть.
Он сказал, что велит Фреду отвезти себя на Остров[55], где в сухом доке стояла его яхта, «Арарат». Там он и станет жить до тех пор, пока Фред не донесет ему, что мы покинули его жилище на Сорок Восьмой улице, и что никаких следов нашего там пребывания больше не осталось.
– Вон! – закончил он. – Баба с возу – кобыле легче!
Вот такую сюрреалистичную вещь замыслил этот оплот реализма! Поселиться в восьмидесятифутовой яхте на приколе! Приходить домой по трапу, пользоваться отхожим местом и телефонной будкой на причале!
А каким фантасмагорическим созданием была его мастерская, тщательно наведенная галлюцинация, на которую ушло огромное количество сил и денег!
А потом он еще пристроит себя и единственного своего друга, одетых в итальянские мундиры, под английские пули!
Если не считать картин, все, что делал Дэн Грегори, имело еще меньше связи с реальностью и еще менее подчинялось здравому смыслу, чем самое передовое современное искусство!
* * *
Сводка событий из настоящего: Цирцея Берман обнаружила, подвергнув меня тщательному допросу, что я так никогда и не прочел полностью ни одной книги, написанной Полом Шлезингером, моим бывшим лучшим другом.
Она-то, как выясняется, прочла их все за то время, что живет здесь. Они у меня все есть. Стоят на отдельной почетной полочке в библиотеке, и в каждой имеется автограф, завершающий письменное свидетельство того, какими близкими людьми мы являемся уже много лет. На большинство из них я читал отзывы и, в общем, представляю, о чем там речь.
Я думаю, что Пол догадывался об этой маленькой подробности, хотя мы это никогда не обсуждали. Я не способен всерьез воспринимать его писания, зная, как безалаберно он сам к себе относится. Подумайте, ну, как я могу торжественно внимать его печатным излияниям на темы любви и ненависти, Бога и человека, целей и средств, и тому подобного? А что касается взаимности – мы в расчете. Он тоже никогда не уважал во мне художника и коллекционера. И правильно не уважал.
Так что же нас тогда связывало?
Одиночество, и еще военные раны, довольно серьезные.
* * *
Цирцея Берман нарушила обет молчания относительно тайны запертого амбара для картошки. В библиотеке она откопала большой альбом с треснувшим корешком, страницы которого не только растрепаны, но и запачканы отметинами пальцев, измазанных в краске, хотя издан он всего три года назад. Этот альбом содержит практически полный набор изображений военной формы солдат, матросов и летчиков всех стран, участвовавших во Второй Мировой. Она задала мне прямой вопрос: имеет ли альбом какое-либо отношение к содержимому амбара.
– Может, да, а может, и нет, – ответил я.
Но вам я эту тайну приоткрою: о, да, о, да.
* * *
Так вот. Я и Мэрили поплелись из музея современного искусства домой, как побитые щенки. Иногда, впрочем, мы принимались смеяться – вдруг крепко обнимались и смеялись, не могли остановиться. И всю дорогу ощупывали друг друга, и результат нам ужасно нравился.
Потом мы остановились поглазеть, как двое мужчин дерутся перед входом в бар на Третьей авеню. Они рычали друг на друга на каком-то непонятном языке. Возможно, они были македонцами, или басками, или фризами, кто их знает.
Мэрили немного хромала, и вообще была слегка скошена на левый бок, потому что один армянин столкнул ее вниз по лестнице. Совершенно другой армянин теперь ласкался и прижимался к ней, и член у него стоял так, что им можно было колоть орехи. Мне нравится думать, что в тот момент мы обвенчались. В жизни всегда есть место таинству. Предположительно, мы должны были покинуть райские сады, прилепившись друг к другу, и скитаться одной плотью, терпя лишения, едины в горе и в радости.
Не знаю, почему, но мы смеялись, не переставая.
Напомню, сколько нам было лет: мне – почти двадцать, ей – двадцать семь. Мужчине, которому мы собирались наставить рога, было пятьдесят три, и жить ему оставалось всего семь лет. Мальчишка, если задуматься. Представляете, еще целых семь лет жизни!
* * *
Возможно, причиной нашего с Мэрили непрерывного смеха были сигналы от наших тел, говорящие нам, что именно то, чем мы собирались заняться, и есть для них самое естественное – в дополнение к еде, питью и сну. Мы не бунтовали, не мстили, не оскверняли. Мы не воспользовались ни той постелью, которую она делила с Грегори, ни постелью Фреда Джонса в соседней комнате, ни той, что стояла в безупречной французской спальне для гостей, ни даже моей собственной кроватью, при том, что нам принадлежал весь дом, за исключением разве что подвала, поскольку единственным его обитателем в тот момент, кроме нас, был Фу Манчу. Наши вдохновенные любовные игры в каком-то смысле предвосхитили абстрактный экспрессионизм, будучи совершенно ни о чем, кроме себя самих.
Я вспоминаю слова художника Джима Брукса о том, как он действует, как действовали все абстрактные экспрессионисты:
– Я набираю краску и делаю первый мазок. После этого холст обязан взять на себя по меньшей мере половину работы.
Если все складывалось удачно, то холст, после этого первого мазка, начинал предлагать те или иные действия, а порой даже требовать их. В случае со мной и Мэрили первым мазком явился поцелуй на пороге входной двери – широкий, влажный, горячий, до смешного неряшливый.
Куда там какой-то краске!
* * *
Наш холст потребовал от нас еще и еще поцелуев, более и более жарких, а потом заставил нас пройтись, не отрываясь друг от друга, в запинающемся, шатающемся танго вверх по лестнице и через парадную столовую. Тут мы опрокинули стул, но водрузили его на место. Теперь холст взял на себя не половину, а всю работу, и провел нас насквозь через кладовку в заброшенный чулан, шесть на четыре фута. Единственной обстановкой в нем оказался дряхлый диван, должно быть, брошенный предыдущими хозяевами. Крохотное окошко выходило на север, открывая вид на голые верхушки деревьев во дворе.
Дальнейших подсказок по завершению этого шедевра нам от холста уже не требовалось. И мы его завершили.
* * *
И мои собственные действия также не нуждались в подсказке от старшей, более опытной женщины.
В яблочко, и в яблочко, и снова в яблочко!
Передо мной раскрывалось мое прошлое! Я, оказывается, давно занимался этим, всю свою жизнь! А еще передо мной раскрывалось будущее! Я буду заниматься этим как можно чаще, всю свою жизнь!
Так и случилось. Но так хорошо, как в тот раз, больше никогда не было.
Тот большой холст, который мы называем жизнью, никогда больше не поможет мне и партнеру создать в постели шедевр.
Таким образом, Рабо Карабекян создал по крайней мере один шедевр – в качестве любовника. Его, разумеется, никто не увидел, и он исчез с лица земли даже быстрее, чем полотна, которыми я заработал себе на сноску в истории живописи. Есть ли на свете что-нибудь, сделанное мною, что меня переживет, если не считать заслуженного порицания, исходящего от моей первой жены, моих детей и моих внуков?