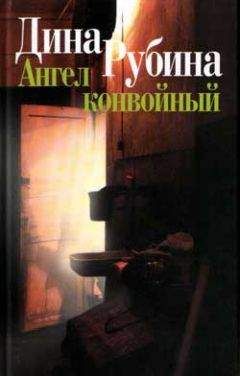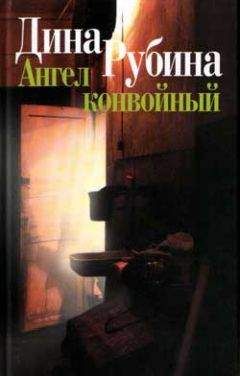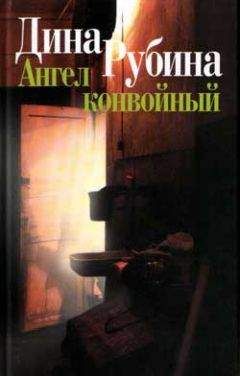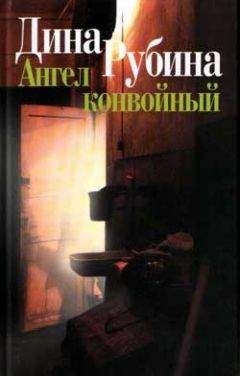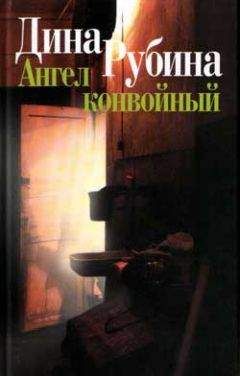Александр Гольдштейн - Аспекты духовного брака
Арье, Эльза, склеп
Кладбище из «Памятника славы», надгробие Арье Розенцвейга (1902–1936). Скульптурная головка египетской статики, так лепили кошек, ваятель добился портретного сходства. Чистая, как после поражения мыслей, лобная кость. В глазницах насечки, щербатые крапинки, оставленные беглянкой, которой облик, оккупировав зрачок, белок, желток, сетчатку, радужную оболочку, повиснув на ресницах и так далее, что толку продолжать, если затмился хрусталик (я не офтальмолог, не ловите на ошибках, слова в предложении подобраны по звучанию). Выпирающие, в точности мои, передние зубы. Хрупкий, опять привет братства, суховеем подпорченный подбородок с чертами характера, разбитого вдребезги, но не вдруг же, не вдруг, мог догадаться, что над черепом занесен молоток. Самоубивец меж войнами… Я не поленился разыскать в архиве повесть, доверенную девяноста семи дневниковым страницам, вот вкратце содержание ржавых чернил.
Шесть лет изучения правовой философии в университетах Берлина, Фрейбурга, Вены, и молодой человек, коему прочили взлет, чьи сдержанно-резковатые опусы отвечали нормам, канонам, ранжирам всего, что, клубясь, обесценило норму, ранжир и канон, дал овладеть собой духу времени, на этот раз в бело-голубом халате сионистского ха-Диббу-ка, с незамедлительным отбытием туда, где вновь горело пламя в очаге, кто-то же должен был следить за поленьями. Отец и мать всплеснули руками, узнав о решении младшего сына, но обрадовались сметливости мнимо недальновидного отпрыска, который дружески списался с дядюшкой, едким бонвиваном борозды и межи, подвизавшимся в Земельном фонде Палестины. Обычаи родства Шмуэль Залмансон ставил выше своего циничного шар-мерства, и хоть не вровень с искренне почитаемой им общественной пользой, но достаточно высоко, чтобы скрасить племяннику начало вечного лета, когда убогость заштатного поприща и потоки солнечных ливней заставили Арье приуныть, пошатнуться, да старик поддержал, непритворно на каждом шагу восхищаясь его прозорливостью, национальным чувством, быстрым ивритом, ладно б раввинистическим, тухлым, о нет, почти совсем живым, еще малюсенькая порция кислорода, этакий, знаешь ли, вентильный поворотец, и катышки огласовок превратятся в шипящие пузырьки, я сам не вытравил венский синтаксис и акцент.
Спустя полтора года, отданных совершенствованью в древнем наречии и в крючкотворном гибриде британского прецедента с оттоманским кисметом, Арье не без посредства Шмуэля получил место в адвокатской конторе, Тель-Авив, два квартала от моря, возле меня. Окрыленный напутствием, он принялся сочинять для газеты «Давар», напитывая суховатую фабулу тревожными вопрошаньями, ибо народное тело, писал Розенцвейг, тяжко и чернотрудно, через века распылений, возрождаемое ныне в первично неизуродованном своем естестве, в том лишь случае станет народным, если расовый обруч будет и милосердным обручем сплоченности; сможем ли мы оправдаться пред памятью сожранных малярийным болотом, коли умений наших достанет разве что на создание разобщенности, — узнавши рабство, видать, соскучились по собственным извратительным путам, и полюбуйтесь на расцветшее, вопреки библейским и талмудическим заградам, ростовщичество, на хищную арендную плату, на заросли иных пороков в теплицах Эрец-Исраэль, ни турки, ни англичане тут неподсудны.
Арье Розенцвейг не делал карьеры, карьера нуждалась в нем. Выигранные им дела, а он выигрывал все, за что брался, были отмечены доказательно-нравственной мощью законничества. Сердце иудейского социалиста, помнящего, как много на свете несчастья, вершило ритм его политической прозы. Вскоре, тяготея к еще большей ответственности, он принял лестное предложение поступить в отдел внешних сношений Агентства (фактически иностранное ведомство государства евреев под властью британцев) и, блестяще выполнив несколько деликатных заданий в Европе, дома, на неофициальном банкете встретил Эльзу Бухбиндер — на меня с обезоруживающим бесстыдством смотрела женщина, которую Габор Мольнар, о том лично поведавший в харчевне «Два попугая» (Иерусалим, околопасхальная весна 99-го), хранил в редком, любимом и, как бы вернее сказать, интуитивно-развратном отделе своего фотособрания; дерзкий снимок с той же персоны лежал среди дневниковых листов Розенцвейга.
Серые глаза. Кошачьи скулы. Пухлые губы африканки тянут блуд с фарфорового блюдца. Мне было чем ответить Мольнару: на стене букинистической лавки Йоси Хальпера, ул. Алленби, Тель-Авив, в центре виньеточно-вензельного коллажа я когда еще полюбил насупротивную объективу (излет 20-х) компанию вертлявых угрей с налитыми юницами, провинциальный, на всех широтах одинаковый шик, если б не ошеломляющее исключение в этом запечатлеце бойких мертвецов — девичье совершенно живое лицо, дышащее непередаваемым, только фотографией и уловленным, полнокровным спокойствием, омывавшим и всю фигуру в темном платье, цвет, смею думать, вишневый. Самоуглубленной, безмысленной, никому не вручаемой похотью нежно пылало это лицо, навсегда в своем возрасте, возрасте жизни, а в парнях и товарках читалась их смерть. В чертах незнакомки искал я уменье губить и нашел его, проистекавшее из того же спокойствия, без четкого плана. Также открыл дар исцеления, кипящую малину в чашке гриппозно-больного. Посему, аккуратно совлекши с нее выходное парчовое одеяние, подложил ей, устроенной навзничь, в кровати, под крестец и под ягодицы китайскую, с крылышкующим змеем, подушку, убедился, что не помеха чулки на резинках, медленно, дабы сквозила в движениях, упаси нас, не грубость, но сдерживающая нетерпенье любовь, стянул через долготу ее ног вежливые штанишки исподнего и, окопавшись по центру, животом и пахом на покрывале (хорошо я отвел его в сторону, голым, стало быть, весом на простынях), губы, язык погрузил в тепловатый, горчащий, железистый сок, натекший мне и в глаза, я распаляюсь, а должен быть холоден для рассказа о бедном Арье Розенцвейге, который, едва Эльзу увидел, неотлагаемо вмиг, непостижно сейчас, неискоренимо вот-вот загорелся узнать, что за белье укрывает шелковой пеной курчавый мыс ее низа и плотно ли упираются в лиф соски крепких грудей.
Она недоучилась в музыкальной академии. Немножечко развлекалась близ танцмейстера Агадати, хореавтора палестинских уличных шествий, празднеств, пуримских карнавалов, гибкой кошки европейского модерна, контур за контуром обводившей золотыми маслинами глаз мужские тела. From time to time писала о женском в газету «Давар». И, как сказал Арье приятель в Еврейском агентстве, проживала последнюю долю наследства, оставленного отцом. Принадлежа к более или менее верхнему слою. Коллега проинформировал Розенцвейга, что якобы прошлой зимой выгуливал ее Зеев Шокен, сомнительный торговец с венграми, румынами, даже с чехословаками, соблазнитель, гешефтмахер кокоток, остерегись, если я правильно понял. Арье мотнул головой, не принял в расчет. Вспомнил потом, отстраненно в тетради царапнув, что дядюшка с его знанием общества и опытом доброго сердца мог спасти, увести, но милого жуира, волнисто, картаво-колори-стично, с нервной сецессионовской грацией читавшего наизусть «Заратустру», уже погребли в той самой земле, которая упокоила и племянника, соседство тесное, между ними камень и камень.
Розенцвейга влекло к женщинам, дни, даже недели случались, когда никто не влек его сильней и прихватистей, но ни в чем не был Арье уверен так крепко, как в том, что рано ли, поздно ль с любой из подруг ему будет стыдное расставание, и сам это предвидение выполнял, маниакальным кондитером, позабыв о закуске, супе, жарком, все готовил, готовил разлучный десерт, порывая на третьем, четвертом свидании, еще до всего, вопиюще без повода, поперек жалоб, расспросов, вразрез с изумлением насурмленных бровей, отмахнувшись от идишской жестикуляции рук — почему, ужели я провинилась, чего же вы добиваетесь, ах, я заподозрила сразу, но было ей, плачущей, невдомек. Что не застенчивость, преодоленная адвокатом и дипломатом, не холостяцкое сумасбродство, а шаткость, а ненадежная нервность половой конституции, изменнически подводившей в двух штурмах из трех, да и третий, мало-мальски (без истерики и позора) пристойный, проливался уже только на купленных девок в крашеной полубашне по ул. Монтефиори, вход со двора, тыльное место с доплатой за конспирацию, — что вот это было причиной, ни одна подозревать не бралась, не хотела, пусть и догадывалась.
Он пробовал, терпел. Терпение ушло. Женщины, ценившие ум, обаяние, положение Розенцвейга, не отступались, просили повтора, это усталость, изношенность психики, вам нужен отдых, он соглашался, ругая свое малодушие. И уже было время, когда после первого сбоя, после первой то есть попытки, он обрывал с теми, с кем отваживался пасть в омут близости, в декабре ж 34-го вообще от нее отказался, до постели не доводя; остался болезненный спорт редких знакомств, спорт причинения боли себе, недоумения — ей. Кончилась однажды и боль, не напугав, не обрадовав, так было до весны 36-го, до минуты узрения, и Эльза сказала, сейчас же меня куда-нибудь пригласите, надоел этот скучный коньяк и слова.