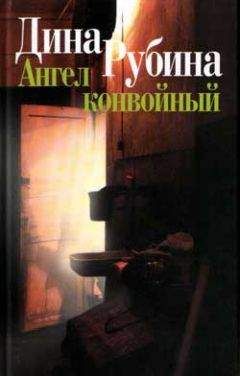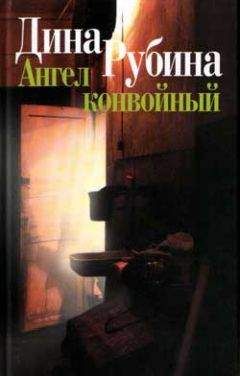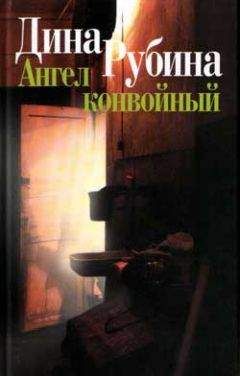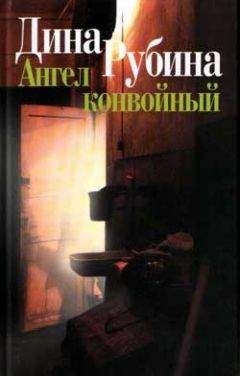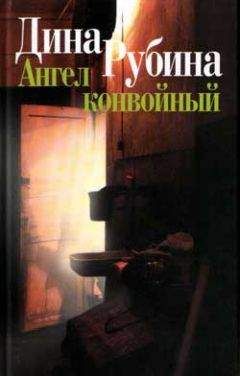Александр Гольдштейн - Аспекты духовного брака
Сначала — это была безотчетная установка, возмещавшая низость происхождения собирателя, — он выделял сановитые ракурсы образованных и состоятельных классов. Невозмутимости юристов поддакивала нафабренная щепетильность фармацевтов (те и другие, додумался он, держали в руках невидимые весы, следя, чтобы в чашах не иссякло равновесие), банковским столпам окраин (усы, визитка, бархатно-атласная жена, дитя в матроске, второе старше и в цивильном платье) вторили корректные службисты министерств, катили крупные составы железнодорожных и почтовых ведомств, акционерных обществ, спортивных клубов, еврейских или проевреенных редакций. Полусвет обжился в штофных, с дорогой посудой и неразглашающей прислугой, кабинетах. Сказку лепетали столь изобретательные губы, что все гаремы, караваны и мускусно-имбирные рынки восточной эротики не вместили бы любострастие 1002-й дунайской ночи, но Габор готов был поспорить: в глазах веселых дам и набыченных мужчин уже поселилась весть о приближении чего-то мерзкого, с чем отказывался мириться рассудок, залитый шампанским, биржевыми комбинациями, покупной любовью.
Стоило отменить сословные барьеры, как Мольнара затопило половодье простолюдинов. Деревня обожала дымчатость буколических грез, то бишь колодцы-журавли и крытые соломой, черепицей хаты. Торговцы, преуспевшие ремесленники, богатые мещане фотографировались на фоне таких же прочных и надежных, как они сами, вещей: бельевых шкафов, резного дерева комодов, застланных кружевными салфетками сундуков, и с ними были они заодно, имея общее, выдвижными ящичками снабженное сердце, на дне которого, в шкатулочках, лежали квитанции и расписки.
В отдельном фаланстере обитало мужеское юношество. Тут попадалось довольно лиц заносчивых, алчных, спесивых, лиц людей, чей психологический мир, исчерпываясь соблазнением модистки и кражей отцовских часов, был приправлен лживыми специями «эксперимента» и сулил, после вхождения в аристократию зла и по окончании факультета права, недурное место чиновника. Но существо времени отложилось на иных чертах. Это были черты тех, кто в букете красных роз, коим Стефан Георге приветствовал взлет Гуго фон Гофмансталя, увидел соединившую поколение кровь, неостановимо сочившуюся из священной чаши, кто не прочел, а причастился, съел и выпил Пробуждение Весны, Толкование Сновидений, Пол и Характер, кто так сильно мучился тьмой, что навстречу ему хлынули заревые потоки экспрессионистических проклятий падшей Вселенной, где небо отвернулось от человека на черствой земле, а трубы фабрик в знак ответного мщения изрыгали в ангельские хоры клубы заразных болезней, то были черты тех, кому в новооткрытых гимнах сто лет назад избравшего безумие певца Диотимы, Гипериона, Архипелага и Патмоса отворились прообразы универсального исповедания наступающих дней и кому архаический торс Аполлона из стихов другого поэта наказал изменить свою жизнь, и с тем же посланием обращались к ним музыка, живопись, философия. Это поколение из собственного голода узнало, что никакая пища не заменит ему ценой таких потерь обретаемой подлинности. Подлинности перекраивающегося творения и обнажившихся пустот, которые насыщались космическим чувством, красотой и покамест нечленораздельными жестами, — сопротивляясь материи, переча вязкой глине среды, угловатые движения вырабатывали новую, антипластичную пластику солидарности. Юноши этого призыва говорили о величественной цельности, упраздняющей дробленую картину импрессионистов, об исполинском пейзаже, для того и созданном Богом, чтобы человек возделывал в светящемся окоеме сады, о перерастании отдельного в слитное, которое, благоговея перед своею же мощью, побеждает все единичное. Они удостоверяли тоску по совершенству, владеющую тысячами одиночек, смятых бешенством этой всеобщности. И считали законным по десять раз на странице писать слово «дух», ибо оно имело для них содержание, пропахшее ипритом и инфляцией всех ценностей, кроме духовных. Мольнар рассматривал снимок: 13 декабря 1917 года, Берлин, вечер литературы экспрессионизма, доклад Казимира Эдшми-да, декларированная оратором философия художественно-религиозного штурма есть путь от драконьих колец северных мифов к средневековой мистической экзальтации, криволинейным парадоксам романтиков, притчам хасидов, современным стихам, и, «превращая все моллюскообразное в обугленные трупы», разрешается он революцией братского Солнца и Луны серебряных даров — Баварскую республику возглавили поэты.
Фотография, думал Мольнар, не относится к сфере символического представления и обмена. Она непосредственно апеллирует к вещной, предметной среде, а также к субстанциональным слоям и категориям состояния, важнейшая из которых — жизне-смертие, предельная выделенность из всего, что обладает отмеренной эпохой присутствия и подвержено трансформациям во времени. Сверхвременное пребывание в остановленности, так назовем фотографию. Здесь, в точке осязательного переплетения многих запутанностей, возникает не условная, гнездящаяся лишь в голове наблюдателя, связь с предметом, а действительное с ним сообщничество и возрождение его целостности. Сколько бы лет ни прошло, в какую б труху ни обратился воскрешающий снимок, схваченный им предмет — изменившийся, распыленный — находится благодаря фотографии в зените своей материальности, развертывается ли она по ту или эту сторону бытия. Кино, телевидение, прочие фиксации не дают такого эффекта; необходимость его — пребывание в остановленности. Однажды произойдя, оно не кончается, а мы не можем от него оторваться, потому что небытие (знание о смерти и потребность его компенсировать) определяет сознание.
Прежнее, живое чувство к двуипостасной держа-не в нем однажды погасло. Мы не знаем, какая планета вызвала отлив любви. Не потому ведь он охладел к этой почве, что слова, которые Мольнар считал своей собственностью, теперь долдонил весь актив обмаравшейся ВСРП. Кончились дни, и если б спросили, зачем убивается он ради выцветших, монотонно струящихся фотографий, ответил бы, не очень настаивая на патетической версии, что Превосходящая Сила назначила его своим медиумом, обязав сквозь пятна на карточках созерцать зеркало черной реки, мертвой страны. Вне зависимости от оскудевших эмоций эта Сила все так же привязывала его к двуединой земле и сама решала, сделать ли завет вечным, расторгнуть ли его, ударив веслом по воде. На чердаках и в подвалах, в дружеских семьях и у незнакомцев, обескураженных его вкрадчивой настойчивостью, бесплатно, за медные деньги и сетуя на грабеж, добывал он облезлые, ломкие, с откушенными краями и побуревшей кожею фотографии. Зарплаты профессора до наступления 90-х хватало и на больший разврат: расставшись с женой, полученной в приложенье к диплому (четырнадцать лет псу под хвост, бросила она, уходя, и Габор согласился), он завел подругу, которая, наивно лелея матримониальные планы, обходилась недорого, три сезона из четырех гулял в джинсах и кожаной куртке, по пятницам унижал разгромной атакой любителя сицилианской защиты и раз в две недели подставлял долговязую фигуру волнам фри-джаза, накатывавшим на модные, сладковато-задымленные катакомбы.
Свое фотоплемя Мольнар успел собрать до зрелой капиталистической оргии, потом все осложнилось. Ничего страшного не произошло, вылезая из дерьма старых порядков, немного отстали от чехов, быстро принявших довоенное мелкобуржуазное выражение, полякам было хуже, убравшимся русским — подавно, болгары, отчаявшись засудить генсека, сникли в балканском тумане, окутавшем димитровскую усыпальницу, загадочное возмущение румын уж очень ловко замыло улики, албанцы гроздьями висели на итальянских судах, чтобы всем скопом уйти за границу, сербо-хорваты точили ножи, монголы спрятались в степных следах Чингиса. Ничего страшного, но улица помутилась от вывихнуто ковыляющей публики, чья одежда как-то вдруг оказалась потрепанной и негодной. Денег было немыслимо много и чудовищно мало, они распределились по законам такого неравенства, которого не видели последних полвека. Объектом раздумий, купить-не-купить, стали сто граммов творога, ветчины и шоколадный сырок для детей «Туро Руди». Квартирные кражи, угрозы, откуда ни возьмись уйма шпаны, ставь, кто может, железные двери и решетки на окна, разгромлены могилы евреев, транзитные пункты международных разбойников учреждаются в городах былого Восточного блока, оскверненных нравами банановых территорий. Знаменитый, прописавшийся на конгрессах писатель, отставным столпом польского диссидентства названный совестью Венгрии, говорит о варварстве новых диких, еще один популярный обозреватель разломов холодно констатирует, что интеллигенция Восточной Европы провалила экзамен свободы. Это ялтинская Европа тлела, вот что. Интеллигенция переживала и утешиться могла только властью, она получила ее за гнилые годы, озлобленное чтение, зависть к Западу; интеллигенция толкнула трухлявое дерево, не разобрав, что подавляющая масса ее останется без дармовых квартир, больниц, университетов и лишь крохотная толика согреется около твердой валюты, политики, славы. Бархатная революция с педантической тщательностью удовлетворяла канону истории, по законам истории шли наверх друзья Габора Мольнара. Они были искренни в том, что не называли свое желание власти желанием власти, ибо в самосознающем сознании, даже в глубинах его ими двигала дума о правильных исторических действиях, приносящих нации пользу. После десятилетий господства вампиров, задыхались они на бегу, благо сообщества граждан взывает к самым достойным из нашего слоя, ведь мы об этом, об этом судили-рядили ночами, и нам ли отсиживаться в кустах, когда рушатся статуи лжи, а тени убитых предтеч, да-да, тени убитых предтеч… Из всего числа полезных людей именно они могли дать нации главную пользу, и для ее проявления им понадобились бронированные автомобили, охрана, свежие секретарши в гостиных, мельтешение на отказывающемся по-настоящему раскошелиться Западе, и посещала их изредка ностальгия по бескорыстию молодости, нечто вроде раскаяния интеллигенции, но это, как сказал Георг Тракль, было неокончательное раскаяние, бороться с ним было легко.