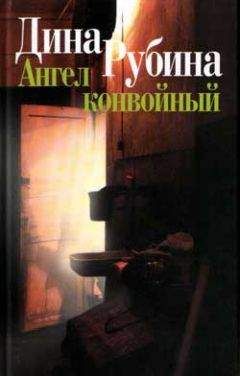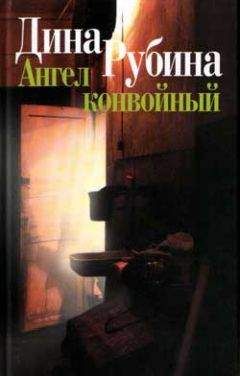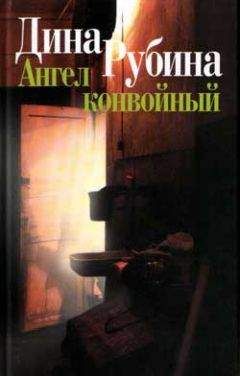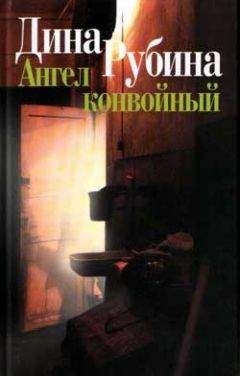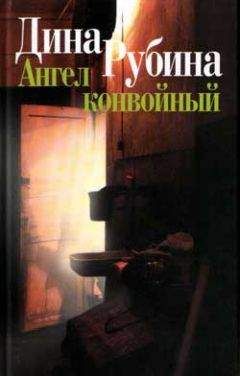Александр Гольдштейн - Аспекты духовного брака
Свое фотоплемя Мольнар успел собрать до зрелой капиталистической оргии, потом все осложнилось. Ничего страшного не произошло, вылезая из дерьма старых порядков, немного отстали от чехов, быстро принявших довоенное мелкобуржуазное выражение, полякам было хуже, убравшимся русским — подавно, болгары, отчаявшись засудить генсека, сникли в балканском тумане, окутавшем димитровскую усыпальницу, загадочное возмущение румын уж очень ловко замыло улики, албанцы гроздьями висели на итальянских судах, чтобы всем скопом уйти за границу, сербо-хорваты точили ножи, монголы спрятались в степных следах Чингиса. Ничего страшного, но улица помутилась от вывихнуто ковыляющей публики, чья одежда как-то вдруг оказалась потрепанной и негодной. Денег было немыслимо много и чудовищно мало, они распределились по законам такого неравенства, которого не видели последних полвека. Объектом раздумий, купить-не-купить, стали сто граммов творога, ветчины и шоколадный сырок для детей «Туро Руди». Квартирные кражи, угрозы, откуда ни возьмись уйма шпаны, ставь, кто может, железные двери и решетки на окна, разгромлены могилы евреев, транзитные пункты международных разбойников учреждаются в городах былого Восточного блока, оскверненных нравами банановых территорий. Знаменитый, прописавшийся на конгрессах писатель, отставным столпом польского диссидентства названный совестью Венгрии, говорит о варварстве новых диких, еще один популярный обозреватель разломов холодно констатирует, что интеллигенция Восточной Европы провалила экзамен свободы. Это ялтинская Европа тлела, вот что. Интеллигенция переживала и утешиться могла только властью, она получила ее за гнилые годы, озлобленное чтение, зависть к Западу; интеллигенция толкнула трухлявое дерево, не разобрав, что подавляющая масса ее останется без дармовых квартир, больниц, университетов и лишь крохотная толика согреется около твердой валюты, политики, славы. Бархатная революция с педантической тщательностью удовлетворяла канону истории, по законам истории шли наверх друзья Габора Мольнара. Они были искренни в том, что не называли свое желание власти желанием власти, ибо в самосознающем сознании, даже в глубинах его ими двигала дума о правильных исторических действиях, приносящих нации пользу. После десятилетий господства вампиров, задыхались они на бегу, благо сообщества граждан взывает к самым достойным из нашего слоя, ведь мы об этом, об этом судили-рядили ночами, и нам ли отсиживаться в кустах, когда рушатся статуи лжи, а тени убитых предтеч, да-да, тени убитых предтеч… Из всего числа полезных людей именно они могли дать нации главную пользу, и для ее проявления им понадобились бронированные автомобили, охрана, свежие секретарши в гостиных, мельтешение на отказывающемся по-настоящему раскошелиться Западе, и посещала их изредка ностальгия по бескорыстию молодости, нечто вроде раскаяния интеллигенции, но это, как сказал Георг Тракль, было неокончательное раскаяние, бороться с ним было легко.
Либералы взъярились на Мольнара из-за серии его спонтанно написавшихся заметок по вопросам внешним и внутренним, о Центральной Европе, озирающейся на флаги и лозунги, торчащие из выгребных ям. В первой публикации доказывал он, что экономическим базисом демократии обаятельного Вацлава Гавела будет экспорт оружия, ладно б другим демократам, кредитоспособнейшим людоедам, во второй и третьей бранился с Милованом Джиласом, ручавшимся, что здравый чего-то там югославских народов не позволит им сверзиться в пропасть, в четвертой, пятой, шестой предрекал открытому обществу венгров беспробудные сумерки задворок, задворки сумерек. Предложение сотрудничать поступило от правых католиков и аграриев, в пространном к ним обращении, тоже напечатанном в прессе, Моль-нар бил по двум пунктам. Исходный тезис — автор письма сторонится фашистов, и далее: как, по-ленински говоря, некоторые империалистические хищники когда-то не успели к дележу рынков сбыта, так консервативные католики и аграрии стали правыми радикалами не оттого, что к этому их влекли убеждения, но по причине опоздания к расхищению имущества и денег — на фланге демреформ урожай был срезан под корень, справа еще дозволялось снять пару сот колосков. Вскоре, разругавшись с начальством аналитического центра этнополитики, Габор Моль-нар со службы уволился.
Сторожем он был сколько надо, по нормам переходного времени, потом директор гимназии в городе, приютившем могилы родителей и живую, с двумя детьми, сестру-одиночку, вызвал его преподавать какую-нибудь, на усмотренье доктора, историю. Два года плавал он в забытьи, перевирая фамилии учеников, редко листая фотоальбомы; коллекция жиз-несмертия собрана, завет с ней расторгнут, никакая сила не вела его руку. Воскресшая Превосходящая Сила заставила его за семь месяцев написать «Речные портреты», как значится в подзаголовке, «книгу в обстоятельствах личного склада». То, что вы здесь прочитали, я прочитал в английском переводе сочинения Мольнара, рассказанного им самим, — апрель, Иерусалим, таверна «Два попугая», доела мацу еврейская пасха, вот-вот православная, он приехал за премией гильдии книготорговцев, я вызвался дать две тысячи слов, в размер чешской хартии вольностей, почти европейская ж знаменитость, высокие тиражи. Я увидел мадьярского рокера середины 70-х, группа «Омега», группа «Локомотив», рост, худоба, усы, с проседью смоляная копна, джинсовая черная куртка. Мы покурили, выпили виски, оливки в греческом салате на огромном блюде были кипрские. Га-бор заплатил.
Ты напиши, что хочешь, мне все равно, сказал он по-русски, но это не проза, не собственно проза, это как бы просто моя жизнь, не политика, не литература, просто как оно было, без продажи, без выставления на торги, жизнь моя, понимаешь. Что же здесь не понять, и у меня, Габор, голая жизнь, уж, конечно, к сожалению, не литература-словесность, это доказывать не приходится, а когда нет ничего, ни словесности, ни даже литературы, голая жизнь-то и остается, нашел, ей-богу, чем хвастать. И кому, кроме нас, нужна эта жизнь, разве гильдии книготорговцев, так что ты не лукавь. Я об этом подумал в апреле, разморенный сытным салатом и виски, я, кивнув, об этом смолчал, я не перечу тому, кто платит за мой обед.
Отщепенцы
Смешно прозвучит, но скажу: великие, то есть прославленные, состоявшиеся, художники и писатели интересны все реже, да и вообще почти совсем не интересны. Они не разрешают с собой говорить, ибо не вслушиваются, а вещают, сколько б ни заверяли в обратном. У них нечему научиться — учеба, хотя бы на позднем этапе, когда выполнены вступительные обеты послушничества и послушания, дает радость принадлежности от соединения ученических слов со словами наставника, радость устранения преград между ними, а тут гордый приказ, обрушивающийся с египетских и арктических высей. Они не могут быть сородичами, и прежде всего потому, что непреодолима отделяющая их от обычного мира дистанция гениальности, силы, безумия, честолюбия, из которых складывается это сверхнатуральное устройство. Не имеет значения, благополучно ли определились их судьбы, удалось ли им во цвете лет завоевать почет и богатство, или в пантеон, лицемерно восхищаясь, поместили мощи несчастливцев и горемык, разных ван-гогов. Не мытьем, так катаньем они сподобились славы, они были к ней предназначены, по самой сути своей являясь великими. И, не подозревая об этом при жизни (а в действительности подозревая отлично, очень даже предвидя), они, причисленные к лику святых, стали управляющими культуры, сборщиками дани со всех, кто приближается к охраняемым ими воротам, тщась не то что проникнуть — в узкую щелочку углядеть запрещенные, с райских дерев свисающие винные сласти. Бесполезны старания, с охраной, мытарями и управителями беседу вести нельзя, никуда не пропустят, другой, жестокий язык, язык власти и государства.
Кровью наделены для меня только те художники, которые ни при каких ситуациях, прижизненных и посмертных, не имели ни малейшей возможности сподобиться когорте начальников, диктовать свою мощь, влиять на мнения и умы. Они не должны быть вовсе бездарными, иначе получилась бы нарочитая, вывернутая наизнанку эстетская крайность. Однако смысл их бытия не в писчебумажном поступке, он в убедительном образе неудачи, отверженности, глухоты-немоты, неумении докричаться до оценщиков и потомков, застолбив за собой толику исторической презентабельности. Лишь с чахоточными литературными разночинцами третьего, задвинутого во тьму непризнания ряда и забулдыжными передвижниками с затерянных полок плацкартных вагонов беды я на равных сегодня могу и хочу разговаривать. Их дурацкие участи, отколобродив, все еще длятся, хоть без ночлежной горячки и туберкулезного побродяжничества, что первостепенно, но не до такой степени, чтобы перешибить во мне усугубляющуюся солидарность с забытыми. Эти не будут приказывать, не будут надменно молчать с пирамид и стеречь нажитое, вошь на аркане в их дырявых карманах. Помимо практической несостоятельности они чувствуют и пределы своих скромных талантов, ощущая закономерность разбитого зеркала, распущенной пряжи. И если на что-то годятся они, справедливо отринутые, в целом мире ненужные, так это принести облегчение зрелищем своей полной никчемности, пропойного странничества, нищебродства, примером того, что было им в тысячу раз хуже, больнее. Загробного воздаянья за муки им опять-таки не обещано, все для них кончилось, не начавшись, и бывает ли светлее образчик, чем контур чужой безнадеги, сгубившей малоприметных сидельцев из одного с тобой цеха. Руки их, отвалив сгнившую крышку, разрывая среднерусскую влажную землю, тянутся из могилы наружу, подманивают прохожего: прохожий, остановись, и он останавливается, трогает обескровленные темные пальцы и, без преувеличения, прикасается к себе самому.