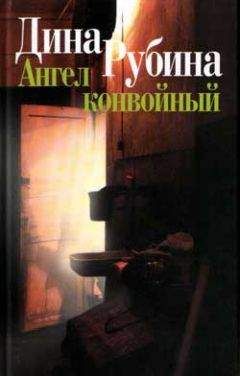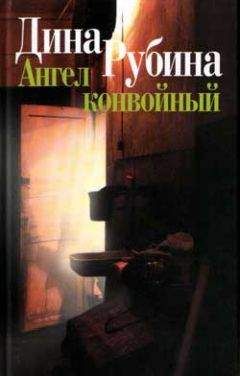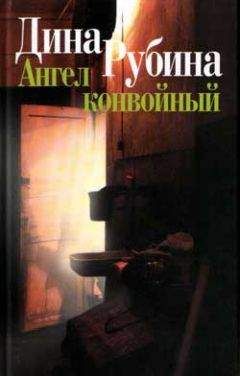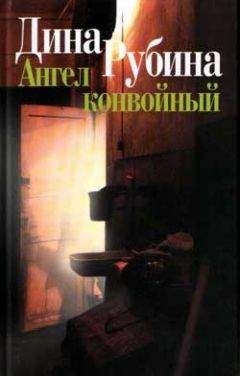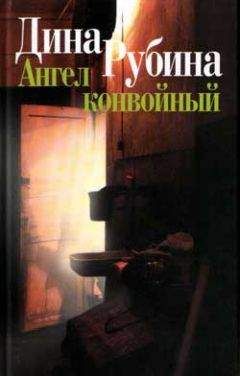Александр Гольдштейн - Аспекты духовного брака
Он пробовал, терпел. Терпение ушло. Женщины, ценившие ум, обаяние, положение Розенцвейга, не отступались, просили повтора, это усталость, изношенность психики, вам нужен отдых, он соглашался, ругая свое малодушие. И уже было время, когда после первого сбоя, после первой то есть попытки, он обрывал с теми, с кем отваживался пасть в омут близости, в декабре ж 34-го вообще от нее отказался, до постели не доводя; остался болезненный спорт редких знакомств, спорт причинения боли себе, недоумения — ей. Кончилась однажды и боль, не напугав, не обрадовав, так было до весны 36-го, до минуты узрения, и Эльза сказала, сейчас же меня куда-нибудь пригласите, надоел этот скучный коньяк и слова.
Из фуршетного ларчика внутренним оком увиделось биржевое кафе. В чесучовых пиджаках, маклерских жилетках, в шляпах, сдвинутых на стесанные затылки, точно шахматисты, вслепую сталкивающие коней и слонов, швыряли за море ящики с апельсинами, ловили тюки с кофе и хлопком. Загорелые молодые рабочие строили баухауз. На белом, завивавшемся от ветра песке полосатые шезлонги — наследство масла и холста французов. Игрушечный мороженщик дудел, трубил. Сироп наливали из стеклянных цилиндров. Хирург взрезал гнойник, и стерильны были бинты в лазарете «Хадасса». Голос толкнул Арье в грудь, сердце, отменив удар, запнулось. С ней можно, с ней нужно, шумел голос в крови, получится, не получится, стыдно не будет, здесь откровенно, бесстыдно, душистость курчавого низа и набухающие от взгляда соски. Выкупанный в свежести день замер у окна. Растительный мир приветствовал Розенцвейга, олеандры, араукарии, кипарисы и пальмы. Арье попросил дождя, и тот прошелестел наискось, китайской тушью, влажным росчерком на рисовой бумаге, прощальный в этом году. Анестезия разморозилась, боль вернулась. Сочту за честь, сказал он Эльзе Бухбиндер.
У нее дома, в четверг 36-го, под патефонную пластинку танго Карлоса Гарделя, после цейлонского чая, бенедиктинского ликера, пирожных, она побудила его к союзу двух тел, задержав у себя на бедре руку, робко, нечаянно легшую на бедро, не стемнело еще, кто-то жарил неподалеку по кавказскому рецепту шашлык, в колечках проперченного лука, вымоченный уксусом и вином, ее поцелуи, сказал он с восторгом, отозвавшимся легким стоном наружу, не были простыми прикосновеньями губ к некоторым участкам кожи, прикосновеньями локального действия, но, куда бы ни упадали, благотворили негой весь корпус, и она накрыла каштановыми волосами покрасневший, набрякший исток.
Эльзе суждено было стать единственной женщиной его затяжных отношений, девятнадцать встреч и столько же соитий за три месяца, шесть полноценных, прочие с изъяном, но вот же странность, угнетение прошло, страх выпарился, навсегда освободив, и плоть подруги не роптала тоже. Боясь излишней щедрости, способной оскорбить намеком на буржуазную гнусность купли-продажи, он блюл златую середину, чтоб регулярный ритм приязни (духи, эмалевые броши, перламутровые пудреницы, накидки, шарфы из шифона) не обличал в нем ни скупца, ни нувориша, это давалось с трудом, ибо предкоитально, в амоке предобладания хотелось иного, сбежать вдвоем, рассовав по карманам банкноты, лишь бы и завтра она опускалась на него спиною к нему, выгибала атласную спину, тягуче покачивалась вверх-вниз, а охающий он тянулся бы к ее грудям, сей оборотной стороне Луны, и натыкался на горячие лопатки.
Они уже не прячась завтракали в кафе. Почти неделю умащивались ленью в кудрявом, грехоядном Бейруте. После полудня в июле (медуница душной флотилией плыла в открытую настежь балконную дверь, обагренная чем-то алым зелень кустов пронзалась иглоукалывающим писком колибри), она известила его о разрыве. Зеев Шокен возьмет с собой в Швейцарию, разгонит кредиторов, он мужчина, произнесла она низко, будто во сне, ведь ты не отрицаешь, дорогой… Зачем же тогда, сказал он и сам удивился, как непонятно для слуха звучит его сиплая речь. Ответ звенел в ушах Арье до последнего дня, остававшегося ему на земле: Эльза рассмеялась от избавления.
Дальнейшие записи, охватывающие полуторамесячный период, столь непоследовательны, что бросают тень на сюжетостроительные качества автора дневника; мы повременим цитировать эти страницы, ночные вылазки законопослушного гражданина, внезапные, на голом месте, ссоры с коллегами, раскаяние, соображения о женском характере в тон манихейству юного венского уникума, все еще заметки о прочитанном, сравнительные заслуги снотворных препаратов, особняком, на песочных листочках, поражающие своей эксцентричностью наброски к психологическому портрету Адольфа Гитлера. Что равновесие в Розенцвейге нарушено, сослуживцы, значения не придав, все же поняли и отнесли на счет нервов, которые и должна была подлечить эмансипированная палестинка Бухбиндер. Сентябрьским вечером, встревоженные злой жатвой тишины, соседи на цыпочках вошли в незапертую квартиру юриста и дипломата Арье Розенцвейга, обнаружив, что тело хозяина уснуло ничком на кровати, а восковое лицо повернуто к шелковому дракону Китая; опустошенный пузырек был поставлен на французский томик Бодлера, трехкомнатное жилье светилось холодеющей чистотой, в бумагах, оставленных в столе, имелись четкие указания относительно денежных дел, содержавшихся усопшим образцово. В Агентстве позаботились, чтобы причиною смерти был назван сердечный припадок, и покойного погребли по-людски. Чуть выпирающие передние зубы, суховеем подпорченный подбородок, вот же какая история, Арье. Потом два часа просидел в склепе Нордау, одиноко, дремотно. Помечтал, покурил, окурочек, загасивши, в карман. Вежливые птицы в деревьях и на дорожках. Тихая пристань.
Две чумы
Чем кончится бубонная чума?
Конечно, смертью.
Шекспир. Антоний и КлеопатраПервоначально я хотел ограничиться двумя персонажами — Камю и Арто. У каждого из них было по своей чуме. Мотивировка повествования состояла в том, что эти болезни находились в родстве, они друг на друга смотрели и сообщались. Но, ломая намеченный порядок, в изложение вторглось еще одно действующее лицо. Это пустое (опустошенное) искусство, или третья эпидемия. Впрочем, болезнь эта пошлая и назвать ее чумой нельзя.
В «Чуме» Альбера Камю критика на полвека вперед съела содержание. Толкователи обратили коржа-вых крыс, полчищами околевающих под зноем франко-алжирского города, в нечисть из аллегорического бестиария. Хроника одной эпидемии с эпиграфом из мистификаторской саги Дефо была прочитана как метафора военных событий, что и определило незавидную посмертную судьбу сочинения. Доверчивый Феб, наслушавшись сперва хвалебных, а потом негодующих суждений об иносказательной структуре романа, отлучил его от своих стрел, ибо счел этот назойливый параллелизм (разумеется, мнимый, что будет продемонстрировано дальше) архаичным, будто изваяния титанов, поверженных олимпийцами. Кажется, что роман таит червоточину и сбой конструктивного принципа, какой-то излом, спровоцировавший последующие отзывы об этой книге как о претенциозной и в то же время достаточно простодушной, даже простоватой неудаче. Это ошибочное ощущение может возникнуть, если принять ту точку зрения, что книга всецело аллегорична (ведь чума — объемлющий субститут несправедливости, разбойного вторжения и социального гноя). Тогда нужно заявить, что Камю ничего не понимал ни в устройстве художественной литературы, ни в законах общественной психологии. Сегодня, когда уже не осталось неповрежденных репутаций, эти слова прозвучат очень невинным кощунством, а удержаться от них заставляет не уважение к автору, но аргументы, с избытком предоставляемые самой прозой.
Платонически чистая физиология стиля без застойного пищеварения, гнилых выбросов и обочинной падали, от чего не свободны даже и стройные, культурные образцы современной письменности, большей частью неосновательной; латинская соразмерность пропорций с неотъемлемо свойственным ей здравомыслием, но и чем-то таким, что идет дальше ума, не отказываясь от его преимуществ; жар языческого средиземноморского видения, делающего предметы ясней и прозрачней для интуиции и рассудка, — Камю не мог не заметить того, что сознавали не превосходившие его интеллектом хулители, затвердившие принципы строения парабол. А именно: аллегории, притчи и другие условные знаки с политической начинкой не расставляются по остывшим следам происшествия, тем паче недавнего, как германская оккупация Франции, якобы зарисованная в «Чуме» (год издания — 1947-й). Жанры этого типа не возникают из пепла и золы только что сгоревшей истории. Чтобы реализоваться, эта весьма специфическая литература нуждается в ожесточении обнимающих ее событий. Невозможна парабола о нацизме после военного поражения нацизма. Невозможна не только на правах бессмысленного гражданского выпада, но в первую очередь — художественного поступка. Все равно что писать «Скотский хутор», посмотрев, как Берлинскую стену разобрали по кирпичу, а железный занавес стерли в труху. Бездарное нарушение конвенции, стрельба холостыми. Для иносказательного искусства нужен настоящий, непобежденный нацизм и настоящий, непобежденный коммунизм, необходимо взаимодействие с ними, будничное пребывание в их тесно набитом и постоянно голодном желудке. После же драки допускается лишь прямое надгробное слово над павшим, даже если свидетеля волнует экзистенциальный смысл противостояния. Так Пазолини, вновь захотев изнутри пережить Муссолиниев, в манере Сало, декаданс, автором фильма воспринятый в качестве садизма на все времена, не стал вылущивать из него иероглиф, параболу, аллегорию и прятаться за широкой костюмной спиною де Сада, чья отредактированная тюремная истерика стала основой картины, а четко назвал оба места преступного действия: да, Содом, сиречь символ, но и Сало, с конкретностью личного нахождения в патологическом дортуаре минувшего, в спартанской Аркадии извращенцев — et in Arcadia ego.