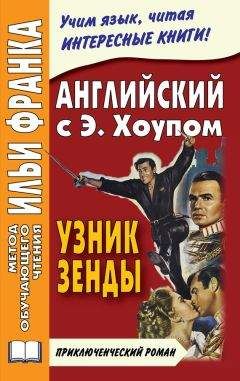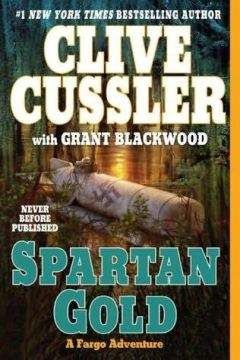Ласло Немет - Избранное
Весь день не могла она справиться с дурным настроением. Ей хотелось завыть в голос от всеобщего веселья и светлых красок дня. Под вечер Шани улизнул от нее. Он протиснулся в свою лазейку как раз в тот миг, когда Жофи вышла во двор позвать его. На секунду ее лицо словно обожгло пламенем. Сейчас она пойдет за ним, отшлепает как следует негодного сорванца! Ей даже легче стало при этой мысли. Но малыш уже исчез за забором. Теперь он, верно, висит на шее у Ирмы. Что ж, пусть будет так, пусть милуется со своей горбуньей! Теперь все равно… Жофи без дела прошлась по выметенному двору, прислонившись к забору, поглядела на хлев, хотя откормленный поросенок уже давным-давно висел в коптильне. Еще раз повернула ключ в подвальном замке, забросала землей известку, отлетевшую от столба галереи. Бесцельно слонялась она по своему двору — какой он, оказывается, большой, а ведь всего-то несколько шагов в ширину. Оказывается, и тут можно затеряться, почти как в большом мире… Жофи осторожно подкралась к забору Хоморов — не слышно ли голоса сына? Вроде бы и правда Шаника, захлебываясь, смеется за забором — или это вдали заливается чей-то ребятенок? Она побоялась явственно услышать, узнать голос сына и, отойдя к калитке, выглянула на улицу; с ней здоровались, она отвечала. Женщины издали всматривались в нее с любопытством, но, приблизясь, здоровались с деланным безразличием и лишь через два-три дома начинали перешептываться: «Да как же постарела Жофи, просто не узнать!» Мужчины подносили свои лапищи к краю шляпы тихо и почтительно, словно проходили мимо гроба, словно и не видели в ней женщину. У почты показались перья жандармской шляпы и тут же стали удаляться наискосок, прямо через грязь! Жофи злилась: ему лучше грязь месить, чем поздороваться! До сих пор она сама отворачивала голову всякий раз, как сержант проходил мимо, и все-таки ее больно задело, что он так явно ее сторонится. Вот чего она достигла своей гордостью — на нее уже и не смотрят как на женщину! А гуляла бы, как другие, куда больше уважения имела бы…
Жофи вернулась в комнату, сорвала покрывало с кровати и как была одетая, бросилась в нее, головой зарылась в холодные простыни, опаляя лицо жарким своим дыханием, словно вздувая жар в печи. О, если бы могла она вот так же, очертя голову ринуться в смерть, в сон, в забвение! Вдруг сладкое онемение охватило ее, комната словно бы медленно повернулась, а потом завертелась все быстрее, быстрее и тело растворилось в мучительно-сладостном падении, стремительно проваливаясь куда-то, совсем как тогда, во сне. Два насмешливых, дерзких глаза смотрят на Жофи, и она один, два, десять раз повторяет: «Имре!» — и дьявол ликует в ней. Словно все ее вдовство вдруг слетело, и она в короткой юбчонке лежит, раскинувшись на соломе, или, совсем голая, колышется на пенистых волнах.
В комнате стало темно; уже и Кизела вернулась — Жофи слышала, как она возилась на кухне с растопкой. Где-то в затихавшей мало-помалу деревне завыла собака.
— Как же так! — услышала Жофи голос Кизелы. — Я-то ведь думала, что оба они у Кураторов.
— Ума не приложу, что с ним, — глухо отозвался другой женский голос. — Пошли мы это к зятю нашему, к Череснешу, а когда домой воротились, Ирма на кухне в три ручья ревет; не знаю, говорит, что с мальчонкой стряслось, не опамятуется никак. Играл себе по-хорошему и вдруг: «Устал я, возьми на ручки» — это он Ирме, значит. А она, дуреха этакая, и взяла. Мальчонка-то враз заснул у ней на руках. Она — будить его, а он ни в какую не просыпается, стонет только. Не посмела дура девка домой-то мальца отнести — что, мол, хозяйка скажет! Ах ты, чтоб тебе пропасть, говорю, или я тебе не наказывала, чтоб не зазывала к себе. Да я говорит, и не зазывала, а только он играл там, среди акаций, по-за домом, вот я, говорит, и подумала, погода-то на дворе слякотная, еще простынет, так лучше в дом малыша позвать. Она ведь уж какая разнесчастная, да на детишках просто помешана.
Жофи вскинулась со скомканных подушек. Голова гудела, слова поначалу с трудом доходили до сознания — но вдруг она поняла, что речь идет о Шани, с заледеневшим сердцем вскочила и замерла, пронизанная страхом. Машина переехала? Упал в колодец? Истек кровью? Глаза выколол? В мгновение ока сотня окровавленных, с вытекшими глазами, искалеченных Шани закружилась вокруг нее водоворотом. Она была не в состоянии сделать ни шага и только судорожно втянула пульсирующую шею в плечи, словно кто-то вот-вот наступит ей на голову. Так она стояла, неподвижная, и ждала. Наконец, осторожно открыв дверь, вошла Кизела и стала с усилием вглядываться старческими глазами в белое пятно раскрытой постели.
— Жофика, вы здесь? — спросила она неуверенно. — Жофи! — И опять посмотрела туда, где мерещилась ей какая-то фигура.
— Случилось что-нибудь? — Голос Жофи прозвучал неожиданно близко.
— Да вот соседка Хомор принесла Шанику, он играл у них, а потом заснул, и они не сумели его добудиться.
Тем временем в растворенной двери появилась соседка с какой-то бесформенной, непонятной ношей на руках и тотчас стала агрессивно оправдываться:
— Дочка говорит мне, он часто по-за домом нашим играет, там, где акации, попка-то прямо на земле, значит. Когда мы дома, она его к себе зазвать не смеет, а тут вот пожалела, что простынет, ну и позвала. А теперь ревет, мол, хозяйка Ковач скажет, что накормила его не тем чем-нибудь. Этого, говорю, не бойся, нету в том твоей вины, что ребенка без присмотра выпускают и он из дому бежит. Верно я говорю?
Жофи не слушала соседку, которая все распалялась, желая предупредить упреки. Кизела, спотыкаясь, опрокинув стул по дороге, поспешила к столу, чтобы засветить лампу, и Жофи лишь в свете, падавшем с кухни, из-за спины Хомор, увидела наконец сына, который, запрокинув головку, лежал у соседки на руках… Вся трепеща, она приняла его и тут же стала торопливо ощупывать дрожащими пальцами лицо, волосы — все ли цело, — стараясь разобрать в то же время, кровь или просто тень у него на лбу.
Между тем лампа на столе разгорелась, и Жофи, страшась утерять робко вспыхнувшую надежду, поднесла ребенка к свету. На лбу, оказалось, была тень, а не кровь; красное личико сына исказила гримаска, и широко раскрытые глаза смежились, прячась от света. Кизела отвела в сторону слипшиеся волосенки и морщинистыми пальцами пощупала лоб.
— Жар у него, — объявила она значительно.
Она расстегнула на малыше пальтишко и осмотрела грудь. Хомор, так и оставшаяся на пороге, пробормотала что-то вроде «бог в помощь» и, пятясь, вышла. Жофи покорно и испуганно держала перед Кизелой сына, возвращенного ей из-под автомобилей, крупорушек, лошадиных копыт. Она впилась взглядом в поджатые губы старухи, словно та способна была изгнать из ребенка болезнь, и старалась по глазам ее, ощупывавшим тельце сына, хотя бы на десятую долю секунды раньше прочитать приговор.
— Сыпи нет, — объявила Кизела, и Жофи почувствовала вдруг огромное облегчение, словно услышала: «здоровехонек». После леденящего ужаса первой минуты облегчением было уже и то, что все у него цело, что он дышит и открывает глаза. И когда Кизела сказала: «Сыпи нет», Жофи захотелось немедленно уверовать, что вообще все в порядке, и слова так и хлынули из нее, как будто главное было — успокоить самое себя:
— Может, и теперь будет, как в тот раз? Ведь у детишек чуть что — сейчас же жар открывается. Тогда-то я целую ночь не спала из-за него, а наутро он уж и не помнил, что ушко болело. А может, заигрался просто, вот и все. Ведь он как начнет, так удержу не знает… Болит у тебя что-нибудь, маленький мой? — спросила она Шани, который постанывал и метался у нее на руках.
Большие черные глазенки Шани, на минуту широко и недоуменно раскрывшись, устремились на мать.
— Не болит. — Глазки закрылись.
— Тогда что же с тобой, если не болит? Просто спать хочется? — подсказывала Жофи тот ответ, который вернее всего унял бы ее тревогу.
— Спать хочется, — согласился Шани, но на восковом его личике в тепле комнаты уже расцветали две красные розы.
— Говорит, спать хочет, — вскинула Жофи глаза на Кизелу, которая с холодным, непроницаемым лицом вошла в комнату, держа в руке собственный градусник; энергичными движениями сиделки она отвернула одеяло и стала взбивать подушки, еще теплые от тела самой Жофи. А Жофи, снова наполняясь отчаянием, отвела взгляд от этого замкнутого лица, так и не сумев прочитать в нем ни намека на ободрение.
— Господи, только бы беды какой не приключилось с сыночком моим, — бормотала она, адресуясь то ли к Кизеле, то ли к своему неуместному оптимизму, пока снимала с Шани башмаки.
Однако Кизела двигалась безмолвно, взбивая постель и выкладывая на край кровати ночную сорочку Шани с таким видом, будто послана сюда самой Судьбою.
Оставшись наконец одна над раскрасневшимся спящим ребенком, Жофи не знала, даже, бояться ли ей за сына или злиться на Кизелу. В том, как ощупывала Кизела Шанику, с какой важностью стелила постель, шепотом давала советы, было что-то жесткое, воинствующее, торжественно-церемонное. Это была новая Кизела, которая выметнулась из прежней, семью печатями запечатанной Кизелы, словно зловещее черное знамя. Жофи знала в людях это преображение: много раз видела таким своего отца, когда он командовал на пожаре насосом, или бабок, которые, явившись принимать роды, расхаживают по дому, как капитан по палубе корабля. Но что нужно здесь Кизеле, зачем она каркает над ее сыночком? Эта злыдня еще и рада была б, случись у Шаники серьезная болезнь, — ведь ей лишь бы покомандовать да поважничать: вот так надо ставить компресс, а вот так смотреть, что градусник показывает… тридцать девять десятых — или как там она сказала… Конечно, куда как славно посплетничать у почтмейстерши: «Насмерть застудился ребенок, ведь мамаша его думает о чем угодно, только не о нем». Да разве тяжелобольные такие бывают? Вон как он дышит ровнехонько, совсем как всегда, разве что жар. Жофи пригладила спутанные, потные волосенки и тут же отняла руку, испуганная влажностью лба. Минуту она с отчаянием всматривалась в сына, словно на постели и в самом деле лежал тот тяжелобольной, которого накликала Кизела. Эта старуха еще и меня с ума сведет. Ведь и в первый раз все было точно так же, а на другой день никакими силами нельзя было удержать его в кровати. В конце концов еще простуду схватит, бедняжка, от этой мокрой тряпки, что она ему на грудку накрутила. А все чтобы передо мной покрасоваться: сперва мокрую тряпицу кладут, потом сухую, а сверху — вощеную бумагу. Я, дескать, Имре моему сразу компрессы делала, если жар был у него. Ну, а моему Шанике не будете делать! Все ведь только для того, чтобы потом языком чесать: ох уж эта Жофика, да какая же мать ее растила — ничегошеньки не умеет; не будь меня рядом, компресса ребеночку не поставила бы… Сниму я все-таки тряпку эту — из-за нее, верно, он и потеет так!