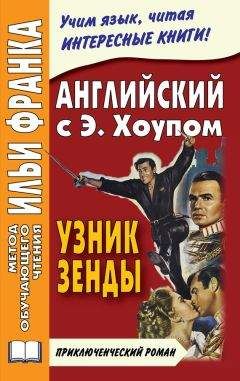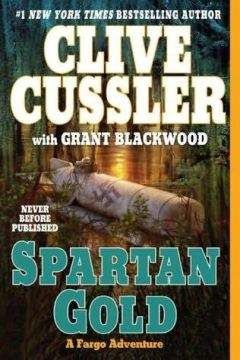Ласло Немет - Избранное
Кизела с сомнением, испытующе взглянула на расшалившегося мальчика, но слова Жофи поразили ее в самое сердце.
— Предусмотрительность никогда не помеха, — пробормотала она сумрачно, почти разочарованно и с минуту поколебалась: настаивать ли, чтоб ребенку измерили температуру. Впрочем, к чему? Эта глупая крестьянка решит, что она любой ценой хочет представить мальчонку больным. Что же, пусть губит его!
С оскорбленным видом она удалилась, а Жофи, торжествуя победу, громко хохотала вместе с Шани, нарочно его теребила — пусть слышит старуха, как он смеется, пусть лопнет от злости! Ей хотелось пробудить в сыне все его жизненные силы, всю радость, чтобы вознаградить себя за пережитые ночью страхи. Шани с удовлетворением принял к сведению, что его мамочку словно подменили — отсюда, вероятно, и незастеленная кровать, и разрешение днем остаться в постели. Он все безудержней использовал новую эру, неизвестно по чьему произволению начавшуюся для него этим утром. Но к полудню ему все же надоело сидеть в постели. Мамочке пришлось заняться стряпней на кухне, а ему вдруг наскучило все — и ямки, которые он буравил в пышных подушках, и отстегнутый пододеяльник; теперь, ложась на минутку на спину, он ощущал все складки измятой простыни.
— Мама, ма! — закричал он занятой на кухне матери, вдруг охваченный горем. — Мамочка, сколько еще мне лежать здесь? И что мне здесь делать?
Жофи, испуганно влетевшая на жалобный голос, попыталась успокоить сына прежним шутливым тоном, словно от этого зависело, начнется вчерашнее снова или нет.
— Знаешь ведь, какой жар был у тебя вечером, теперь надо в постельке полежать. Ужо завтра во двор побежишь, мамочка хижину тебе сделает за хлевом.
Но Шаника ни за что не желал оставаться в постели, углы его губ поползли книзу, по щекам покатились крупные слезы.
— Что мне в кровати делать-то? — ныл он.
Жофи, только чтоб и самой не залиться слезами и чтобы столь чудесно начавшееся утро не обернулось Кизеле на радость, уступила и одела ребенка. При этом она шутила совсем по-новому: «Ах ты, рубашечка, куда же ты головку Шаники спрятала? Во-от она, вот его головка!» Испуг сделал ее изобретательной. Сперва Шаника только размазывал кулаком слезы по бледным щекам, но потом стал прислушиваться к странным речам матери и вдруг, коротко рассмеявшись, начал и сам уговаривать шнурки на башмаках: «А теперь в стойло иди, а теперь из стойла выходи…» Жофи так громко хохотала, услышав это, что и Шани стал ей вторить, не понимая толком, чему они смеются.
До самого обеда Жофи то выбегала посмотреть на кастрюли, то ублажала всячески Шани, а под конец даже вынесла малыша на кухню, чтобы все время быть с ним, смешить его разными глупостями. За целый год не подарила она ребенку столько веселья, сколько за это утро, да и сама вся искрилась, выманивая улыбку на губы Шаники или короткий, высокий, горловой смех. Кизела тоже готовила себе что-то на плите, помешивала в кастрюльке деревянной ложкой, потом резала петрушку на доске и то и дело поглядывала на сгорбившегося на скамеечке ребенка. Видела, что он слабеет, покачивается уже от слабости, но молчала, упиваясь победой. Ну и мать! Как только совести хватило поднять его с постели? Лишь бы заботы поменьше! И еще посмела мне в глаза сказать, что я гроб подбирала. Не дай бог, конечно, но такая мать, право, и заслуживает… Жофи между тем пододвинула к Шанике табуретку, повязала ему кожаный фартучек на шею и с громкими прибаутками стала потчевать куриным супом:
— Цып-цып, супик! Вот тебе гребешок, скушаешь и будешь кукарекать, как петушок, вот так!..
Подражая петушиному крику, она покосилась на Кизелу, у той застыла в руках снятая с огня кастрюлька, и она безжалостными глазами следователя уставилась на Шанику, ожидая, как он поведет себя. Шаника откусил немного от гребешка и улыбнулся, когда мать закукарекала. Потом проглотил кое-как несколько ложек супа, но, когда Жофи сунула ему в рот половину пупка, стал безнадежно его мусолить; личико его становилось все печальнее и недовольнее от этого безотрадного усилия, словно ему нужно было проглотить по крайней мере камень.
Деланная улыбка окаменела на губах у Жофи — ей чудилось, будто из каждого угла следят за ними порицающие глаза Кизелы. Жофи молчала, только смотрела неотрывно на сына, мирясь с тем, что он все мусолит во рту злосчастный пупок; однако в потемневших ее глазах сверкали угроза и отчаяние: приказ проглотить кусок немедленно и признание, что ребенок все-таки болен. Шани тоже понимал, что притворному веселью конец. И нужно сейчас же проглотить то, что во рту, и доесть суп. Потемневший взгляд матери давил на него, и, когда ложка вывернулась вдруг из ослабевшей руки, он в страхе перевел осоловевшие глазки на тершуюся о табуретку кошку. Ложка плюхнулась прямо в тарелку и громко звякнула, будто победный смешок Кизелы.
Злость, безличная, против всего мира направленная злость захлестнула Жофи. Еще секунда, и она, кажется, избила, исколотила бы Шанику. Однако, желая сохранить видимость перед Кизелой, молодая женщина взяла себя в руки.
— Горячо, маленький? — спросила она с сумрачной мягкостью.
— Очень горячо, весь рот обожгло! — с отчаянием и надеждой вырвалось у Шани.
— Потом поешь?
— Потом, — успокоенно подтвердил Шани, для которого отсрочка равнялась вечности.
Жофи отставила суп, она и сама не в состоянии была бы сейчас сделать и глотка. Как можно скорее хотелось ей вернуться к себе, уложить сына в постель, ведь он болен! Но в непроницаемой медлительности Кизелы она чувствовала столько торжествующего злорадства, что не в силах была признать перед ней свое поражение.
— А почему ты глазки трешь? Спать хочется, правда, ночью-то не пришлось выспаться?
— Спать хочу, — простонал малыш, и ресницы прикрыли потускневшие глаза.
— Ну, ладно, пойдем баиньки на диван, — проговорила Жофи и, не дожидаясь, пока Шани слезет со скамеечки, подхватила его на руки. Тельце сына пылало огнем, она почувствовала это сквозь свою и его одежду, когда прижала к себе. — Поспит хорошенько сыночек мой, а потом мамочка опять даст ему супу, и он съест все-все до последней ложки, правда?
Уже закрыв за собою дверь и спрятавшись от провожавшего их взгляда Кизелы, она продолжала говорить все тем же неестественно легким, уверенным голосом. Жофи спиной чувствовала этот взгляд, она сопротивлялась ему даже у себя в комнате, громким смехом заглушая прихлынувшие слезы.
Она уложила Шани не на диван, а на ту же взъерошенную постель — головенка его так и вдавилась в подушки, словно налитая свинцом. Жофи показалось, будто его всосала в себя эта пуховая гора; мальчик не шевелился, лишь большие глаза время от времени обегали комнату — с Жофи на дверь, с двери на лампу, — а потом снова скрывались за отяжелевшими, в синих прожилках веками. Жофи присела в ногах постели и беспомощно всматривалась в сына. Она все еще не хотела поверить, что мальчик тяжело болен. И ежесекундно ждала, что вот сейчас он сядет на постели и попросит есть или начнет требовать, чтобы его одели. Какой он веселенький был утром! Может, ему надо поспать?
— Спи, мой маленький! — уговаривала она ребенка. — Закрой глазки и попробуй уснуть.
Шани послушно закрывал глаза, но под опущенными веками видно было, как беспокойно ходят вверх-вниз глазные яблоки. Немного спустя глаза опять открывались и еще быстрее перебегали с предмета на предмет, словно желали убедиться, на местах ли осталось все то, что исчезало в насильственно созданной тьме.
— Почему ты не спишь, ведь мамочка просит тебя, — жалобно уговаривала Жофи; ей вспомнились компрессы Кизелы, как знать, может, полегчает от них сыну. Таз по-прежнему стоял возле умывальника; Жофи окунула в воду полотенце и осторожно его выжала, чтоб не слышно было за дверью. Шани внимательно следил за матерью, даже приподнялся немного, наблюдая, как стекает вода, и только тогда захныкал, когда мокрое полотенце двинулось прямо к кровати.
— Не надо, не хочу! Мамочка, не надо! — закричал он, и Жофи сама не знала, чего так испугалась — крика или необходимости приложить мокрое полотенце к пылающему тельцу сына.
— Вот какой ты дурной мальчик! — воскликнула она, в сердцах бросила полотенце на край кровати и вдруг, зарывшись головой в одеяло, разрыдалась.
Шани, притихнув, глядел во все глаза: мамина голова исчезла, остались только часто вздрагивавшие плечи… Непривычное явление пробилось сквозь пелену лихорадочного тумана, он приподнялся и стал трясти мать за плечо:
— Мама, мама, встань! Ладно, укрывай меня этим мокрым полотенцем…
Но теперь сама Жофи не хотела и слышать о компрессе, она вытерла слезы и, радужно улыбаясь, спросила:
— Значит, ты согласен, маленький, только бы мамочка не плакала? Значит, ты все-таки любишь немножко свою мамочку?