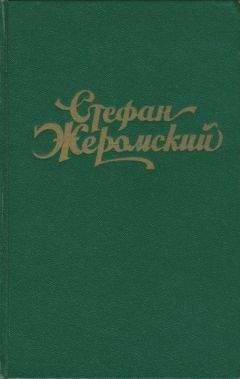Олег Суворинов - Петербург-Ад-Петербург
— А когда это пройдет?
— Он тебе сильно нужен, да?
— До смерти.
— Тогда подожди часика полтора, пока его отпустит, — усмехнулась она. — Ты будешь вмазываться?
— Нет, я потом. Сейчас не хочу, — ответил я. Волнение и даже страх стали закрадываться ко мне в душу. От этого мерзкого места мне становилось жутко и вновь затошнило, как утром в кафе.
Помолчали.
— Ты, по-моему, здесь первый раз. Я что-то тебя не помню, — неожиданно сказала Маша.
— Да, я не был здесь раньше. Я к другу зашел, — указал я на Родина.
— Родя твой друг?
— Да, — говорю, — мы недавно познакомились. А ты что, всех здесь знаешь?
— Конечно, я здесь живу. Я Рае помогаю. У меня проблемы с родителями. Они суки, понимаешь?
— Нет, не понимаю, — потрясенный ее словами, ответил я.
— А-а, это не важно, — протянула Маша.
Я повернулся к Родину и, тряся его за колени, сказал:
— Э-э-э, ты меня слышишь?
Он немного приоткрыл глаза, что-то пробубнил себе под нос и снова погрузился в забытье.
— Бесполезно, — ввинтила Маша, — ему не до тебя. Подожди часок и все будет в порядке. Хочешь трахнуть меня? — беззастенчиво поинтересовалась она. От ее вопроса сердце мое упало в пятки. — Пятьсот рублей, — добавила она, — пока друга ждешь. Презервативы у меня есть.
Более находиться в этом адском месте у меня не было сил. Ждать этого мерзавца Родина полтора часа до тех пор, пока его отпустит, я посчитал для себя более, чем унизительным. Решено было немедленно бежать прочь из проклятого вертепа. А там будь, что будет!
— Нет, — пытаясь отреагировать спокойно на ее непристойное предложение, сказал я, — я сейчас ухожу, но ты, если тебе не сложно, передай этому, — я кивнул в сторону Родина, — когда он очнется, что приходил Герман Гарин и сказал, что как только он (Родин) попадется ему на глаза, пусть пеняет на себя. Я убью его, — резко добавил я, вставая с матраса. Сидевший в углу на корточках человек поднял на меня свой мутный взор. Маша немного придвинулась в угол.
Я продолжал:
— Знаешь что, Маша, а есть у тебя бумага и ручка? Я хочу ему свой новый номер телефона оставить.
— Диктуй, я на мобильный запишу. — Она под мою диктовку записала номер.
— Вот спасибо тебе, Маша, — сказал я, улыбнувшись, после чего окинул взглядом валявшегося на полу Родина. Злоба поднималась у меня внутри, но трогать его в таком состоянии и пытаться ему что-либо разъяснять было бессмысленно.
Недолго думая, я вылетел из комнаты в коридор, где мне навстречу вышла Рая. Она хотела что-то сказать, но я поспешил опередить её:
— Рая, я тут подумал и решил, что сейчас не буду, а Роде и так уже хорошо. Я потом с ним встречусь.
— Дело твое, — тихо выговорила женщина, испытующе глядя на меня.
— Ну, я пойду, — сказал я и ушел прочь из этого скверного места. Пройдя грязные глухие дворы, снова бросив взгляд на деда, все еще сидевшего возле гнилого сарая, я вышел на дорогу, поймал такси и помчался домой к Ивану Тимофеевичу. Тревожное чувство росло во мне, достигая исполинских размеров.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Старик Иван Тимофеевич стоял под козырьком подъезда с мокрым соседским псом на поводке. Пес взглянул на меня грустными глазами, а потом уткнулся мордой в левую штанину Ивана Тимофеевича. Лицо старика казалось мне еще более спокойным, чем с утра, но в то же время на нем все более отпечатывался странный суровый оттенок. Морщины его стали вдруг глубже, глаза потускнели и провалились в глазницы. Словом, лицо, выражающее полное спокойствие, говорило и о неком болезненном состоянии, которое нельзя было не заметить.
Я встал рядом с Иваном Тимофеевичем под козырек и уставил глаза в дождевую мглу. По откосам сильно стучали капли воды, заглушая своим треском все остальные звуки вокруг.
— Как вы, Иван Тимофеевич? — стараясь перекричать дождь, спросил я.
— Чувствую себя неважно, — ответил он не без напряжения, силясь перекричать грохот. — Давай зайдем домой. Там поговорим.
— Хорошо.
В подъезде дома пахло сыростью. Соседский пес покорно зашел в лифт и сел в уголке.
— Вот ключи, — сказал старик, — иди домой, а я собаку заведу, покормлю и вернусь.
Молча взяв ключи, я вышел из лифта.
В квартире царило безмолвие. Света было мало. Несмотря на то, что время было обеденное, создавалось впечатление, что уже смеркается. Страх и тоска точили мое сердце.
Наскоро раздевшись, я мигом нырнул в свою комнату и тщательно припрятал в чемодане, с которым приехал из Питера, два маленьких сверточка с наркотиком и шприцы, купленные мною у цыганки Раи. После этого мне хотелось осуществить еще одно намеченное мною дело, а именно, изучить кошелек Родина, который он выронил с утра. Спешу заметить, что мысль о вреде любопытства, о котором говорил Константин Константинович, все же не отпускала меня. Сев на кровать, я расстегнул замок на кошельке и принялся медленно вынимать из него всевозможные карточки, визитки, бумажки с именами женщин и их телефонами, две какие-то таблетки, несколько сот долларов, пару тысяч рублей и фотографию девочки с лицом херувима. «Наверное, дочь», — подумал я. Глаза её казались мне какими-то грустными, а взгляд совершенно не детским. Девочка была точной копией отца. Очень часто случается так, что девочки рождаются чрезвычайно похожие на своих отцов, а мальчики, наоборот, на матерей… Я долго смотрел на фотографию несчастной Настеньки. Такая жестокость по отношению к невинному ребенку со стороны родного отца вызывала у меня чувство злости. Честно говоря, я в эти последние два дня стал замечать, что это чувство стало появляться во мне гораздо чаще прежнего, и сила его увеличивалась с каждым новым приливом. Раньше мне не приходилось чувствовать озлобление на все, что меня окружает, но теперь все стало меняться. Я заводился с пол-оборота. Но все же мне удавалось держать себя в руках. Если бы не выдержка, я, наверное, размозжил бы череп Родину прямо в притоне о стену, чтобы он так и не пришел в сознание.
Отложив фотографию Насти, я обратил внимание на некий потайной кармашек, в котором был припрятан плотно свернутый тетрадный лист в клеточку. Аккуратно достав его из потайного кармана, я развернул его и… До меня донесся стук закрывающейся входной двери.
— Герман, — послышался голос Ивана Тимофеевича.
Резко вскочив с кровати, я мигом засунул кошелек и все бумажки под покрывало, тщательно расправил его, чтобы было как можно менее заметно и со спокойным видом вышел из комнаты в темный коридор.
— Герман, — глухо произнес Иван Тимофеевич, — а ты чего не на работе? Ты ведь…
— Меня уволили, — начал я, — из-за вчерашней потасовки в редакции с Жабиным. Марк Соломонович и слушать не захотел моих объяснений…
— Да как же это так, Герман? — возмущенно спросил старик. — Что ж тебе теперь делать?
— Я не знаю, Иван Тимофеевич, — ответил и, немного помолчав, добавил: — В Питер обратно поеду.
— Вот досада! Да-а-а, это не хорошо, — протянул старик. — Ты сильно расстроился, Герман? — спросил он.
— Да, как вам сказать, Иван Тимофеевич? Я, честно говоря, больше расстроен по-другому поводу.
— Что стряслось? — взволнованно спросил он.
— Давайте перекусим, — сказал я, пропуская вопрос. — Я вам за обедом все расскажу. Главное, чтобы аппетит после моего рассказа не пропал.
— Ой-ей, не пугай меня, Герман. У меня и так сердце никудышное…, — сказал старик и прошел в кухню.
Я остался в коридоре.
— Дождь второй день льет, как зверь, — говорил он из кухни, — по телевизору говорят, что такая погода еще чуть ли не неделю будет. Будто за два этих дня недельная норма осадков выпала. Вот природа. Это ж чудо какое!
— Чудо. Это вы точно подметили, — сказал я себе под нос и прошел на кухню. Старик стоял спиной к двери и смотрел в окно, за которым бушевала стихия.
Разговор наш мне показался совершенно пустым и бессмысленным.
Казалось, старик впал в свое странное состояние забытья. Я, не произнеся ни слова, прошел вглубь кухни, налил из кувшина в чайник воды и сел на тот самый табурет, где я потерял вчера сознание. Иван Тимофеевич продолжал стоять и смотреть в окно. Он стоял так близко, что с каждым выдохом на стекле образовывалось мутное пятнышко влаги, которое через пару секунд исчезало и на его месте появлялось новое.
Посидев так минут семь, я встал, достал из холодильника кусочек копченой колбасы и принялся строгать бутерброды. Чайник начинал закипать, тихонечко посвистывая.
— Ну, что там у тебя произошло? — неожиданно, так, что я даже вздрогнул, спросил Иван Тимофеевич. — Поговорил с Катей?
— Да как вам сказать, Иван Тимофеевич. Лучше б не поговорил, — странно высказался я. Старик отошел от окна и сел на табурет возле стола. Я продолжал нарезать колбасу ровными кругляшками.
— Не понимаю тебя, — сказал он.
— А что тут понимать. Пришел в редакцию, а её там нет. От сотрудников я узнал, что она взяла отпуск за свой счет.
— И что?