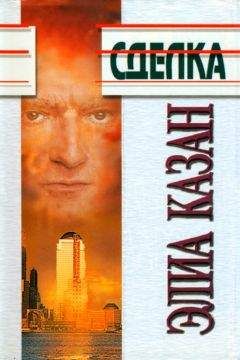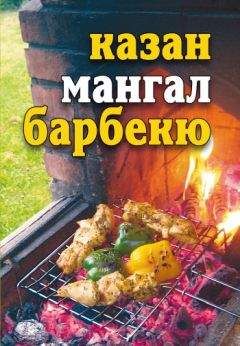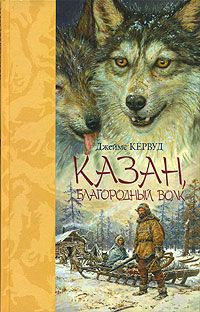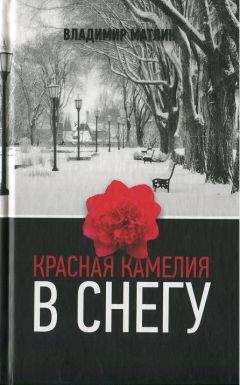Яков Арсенов - 76-Т3
В манере загорающих использовать белье сквозило желание оставить на теле как можно меньше незагорелых мест.
— Хоть немного подкоптимся, а то на людях раздеться стыдно, потянулась биологичка своим русалочьим телом. — Ты бы прилегла, Таня, голову напечет, — подгребла она к себе барханчик теплого песка.
— Стоя лучше пристает загар. — Татьяна, как Оранта, держала руки поднятыми кверху, вымаливая у неба ультрафиолетовую катастрофу. Как подсолнух, она не спеша поворачивалась вслед солнцу. Невысокий обрывчик долго терпел на себе ее присутствие. Наконец, не выдержал удельной нагрузки и пополз. Татьяна рухнула в воду. Девочки бросились спасать. Но она выбралась сама и, отодвинув подруг руками, уставилась под соседний куст:
— Кажется, за нами подсматривают, — отличила она мутный камуфляж всей в мормышках куртки от яркой зелени молодых побегов.
Забелин сидел ни жив ни мертв. Он сообразил, что выход один, и рысью зачесал в лагерь. Не успел перевалить через спасительный бугор, как правая рука Татьяны грузно легла на его хребет, собрав в кучу куртку. Спина снайпера заголилась до лопаток. Через минуту Забелин лежал у женских ног. О том, чтобы успеть попутно отревизировать ноги биологички Лены не могло быть и речи.
— Это же искусство, — лепетал он в свое оправдание.
— Аполлон, Венера, красота человеческого тела… ты же сама просила чаще задействовать тебя… только не трогайте камеру!
— Если ты эту порнографию не вырежешь, смотри у нас! Своим фильмом он заставит меня плакать! Как бы не так! Тупая радость! Чтоб глаза тебя больше не видели!
Надругание было произведено на виду у невесты. Вечером у Забелина могли возникнуть проблемы с биологичкой. Он был отпущен под честное слово и под смех чисто женской фракции.
Матвеенков, всегда очень ревностно относившийся ко всякой поживе, принял стоявшие неподалеку постройки за пчелосовхоз.
— Может, так сказать… в смысле… просто, ну, как бы попробовать… сходим? — исполнил он монолог для Усова, с поперхиванием, будто избавляясь от какого-то немыслимого солитера.
— Да какой сейчас мед?! Май на дворе, а по старому стилю так вообще апрель! — просклонял его Усов, но внутренне был согласен отправиться за сладким хоть зимой и на край света. Добытчики, как Винни-пух с поросенком, затрусили к пасеке.
Добравшись до построек, обнаружили полнейшее безлюдье и полезли по ульям. На защиту своих крепостей поднялись все обитатели пасеки. У грабителей потемнело в глазах. Они переглянулись. Прочтя друг у друга на лице анархический клич «спасайся, кто может!», опрометью рванули назад. Усов был в плавках — для пчел все равно, что голый. Он прыгал через кочки и канавы и распухал от укусов, как от тоски. Обогнав Матвеенкова на добрые полкилометра, споткнулся и распластался по глинозему. Пчелы довелиапи терапию до конца, покружили немного для острастки и, с сожалением взглянув на непрокусываемый бекон приближающегося Матвеенкова, вернулись на базу.
— Бог мой! — в один голос крикнули девушки.
— Пчелиный яд очень полезен, — попытался вызвать положительную эмоцию Рудик. Ни одного из мнений Усов разделять не мог. Вращая заплывшими глазами, он с ужасом ощупывал свои новые формы.
Татьяна усадила Усова к себе на колени, смазала вьетнамским бальзамом и строго-настрого приказала никогда больше, чтобы не переутомляться, не брать в руки весло. Это была первая и последняя помощь.
— Клин клином вышибают, — сказал Решетнев, расставляя вокруг зельеобразной бутыли по ранжиру стаканчики, бокальчики и крышку от термоса из своего неделимого посудного фонда.
— Сегодня чистый четверг, товарищи! — вспомнил Рудик. — День смытия грехов. Перед пасхой.
— Жаль, Гриншпона нет, он бы нам всем яйца накрасил, — сказал Артамонов.
Матвеенков полез в воду первым. Он сознавал свою ущербность. Будучи неисправимым полифагом, он не соблюдал ни больших постов, ни малых. Вся жизнь его была — сплошной мясоед. А если когда и доводилось питаться крапивным салатом, он смаковал его, как скоромное. Плюс попытка сойтись с несовершеннолетней. За ним, взявшись за руки, в воду сошли Нынкин и Пунтус. Фельдман, как ангел, промочил конечности и бросился обратно к костру. А Матвеенков все рвался и рвался в пучину, ощущая на себе тяжкий груз нечестивых дел.
— Теперь можно согрешить по новой. Наливай! — отдал приказ Рудик. Забелин припал к кинокамере и принялся снимать пьянку.
* * *— Дебе де кадется, что эди дастольдые кадды будут комптдометидовать дас в гладах подомкофф? — сказал все еще не пришедший в себя Усов, нозализируя звуки оплывшим носом.
— Не думаю, — ответил за Забелина Решетнев. — Все великие люди были алкоголиками. Это сложилось исторически.
— Но их пикники не были самоцелью, — сказал Артамонов. — За вином они благородно спорили о России, поднимали бокалы до уровня самоотречения. А мы? Только и болтаем, что о всяких дефицитах, дороговизне и еще кой о чем по мелочам.
— Тогда было другое время, — оправдался за все поколение Климцов.
— Время здесь ни при чем, — Артамонов бросил в реку камешек, отчего ударение пришлось не на то слово.
— Почему? Каждая эпоха ставит свои задачи, свои проблемы. — Климцов явно не собирался пасовать. Чувствовалось, у него есть, чем прикрыть точку зрения.
* * *— Тебе не кажется, что эти застольные кадры будут компрометировать нас в глазах потомков?
— Их диктует не время, а люди. И сегодня можно не впустую спорить о нашем обществе. Зависит от состава компании.
— Ерш… в смысле… ну… — заворочался Матвеенков, желая дополнить, как всегда, не в жилу.
— Ерш — это не когда смешивают напитки, а когда пьют с разными людьми, — перевел друга Решетнев, чтобы тот не мучился.
— Э-э-м-м, — замычал Матвеенков, благодаря за помощь.
— Но коль мы заспорили так горячо, значит, нашу компанию можно считать подходящей, — продолжил Климцов. — Только что проку от этих споров. Сегодня нет никакой необходимости надрываться, лезть на рожон. Каждый приспосабливается и в меру своих возможностей что-то делает. Весь этот нынешний романтизм чего-то там свершить… смешон и наивен… обыкновенные манипуляции с самим собой. Отсюда узость застольных тем, бессмысленность брать ответственность на себя. — Внутренности Климцова и Артамонова искрили при соприкосновении с первой колхозной гряды. Когда стороны сходились вплотную, в атмосфере возникала опасность коронного разряда.
— Раз ты настолько категоричен, зачем продолжаешь быть комсоргом?
— Затем же, зачем и ты — комсомольцем. — Климцов умел отыскивать слабые точки, чтобы вывести собеседника из равновесия.
— Для меня комсомол не больше, чем стеб.
— А я не враг сам себе, да и гривенника в месяц на взносы не жалко. И в партию вступлю. Я намерен уже к сорока годам попасть в ЦК.
* * *— Вот дак да! — воскликнул Усов. — У дас де кудс, а сбдот какой-до! Мудыканты, актеды, дадиодюбитеди, дапидисты, пдофсоюдники, алкоголики, десадтдики, и вод деперь кобудист. Одид Кочегадов данимется делом, ходид да кафедду на пдодувки дурбин, осдальные все далетные, дасуются пдосто, данесло одкуда попадо. Косбодавты, повада, деудачники, даже гдузины, не бобавшие до ли дуда, до ли дуда, до попавшие дюда, сбдот! И дадно бы все это быдо хобби, но все даободот — тудбины и диделя хобби! Мы забалим бсю энедгетику отданы, дас нельзя выпускаль с дипломами! Мы тдагедия кудса!
— Что ни сбор, то политические споры, — сказала она.
— Праздник превращаете во что попало!
— Я… как бы это… одним словом… в плане чисто познавательном… влиться в мировой… так сказать, процесс… если честно… не грех, а то кадык сводит… — Длительные дискуссии в большинстве случаев отзывались в Матвеенкове артезианской икотой. К тому же он гонял по небу жевательную резинку и процесс речи походил на сокращение прямой кишки под глубоким наркозом.
— Матвеенков предлагает выпить за это, — перевел текст Решетнев.
Внутренний мир Матвеенкова не определялся наружными факторами. Может быть, и даже скорее все *- Вот так да! — воскликнул Усов. — У нас не курс, а сброд какой-то! Музыканты, актеры, радиолюбители, рапиристы, профсоюзники, алкоголики, десантники, и вот теперь коммунист. Один Кочегаров занимается делом, ходит на кафедру на продувки турбин, остальные все залетные, тасуются просто, занесло откуда попало! Космонавты, боксеры, повара, неудачники, даже грузины, не попавшие то ли туда, то ли туда, но попавшие сюда. Сброд! И ладно бы все это было хобби, но все наоборот — турбины и дизеля хобби! Мы завалим всю энергетику страны, нас нельзя выпускать с дипломами! Мы трагедия курса! Все, внутри у него бурлило, негодовало, сочувствовало, мучилось, но на поверхности он в большинстве случаев оставался бесстрастен, как какой-нибудь провинциальный духовой оркестрик, с одинаковым спокойствием сопровождающий парады и похоронные процессии.