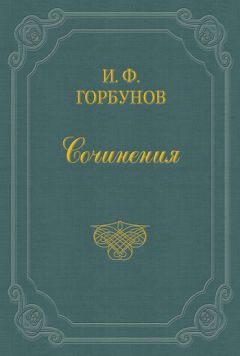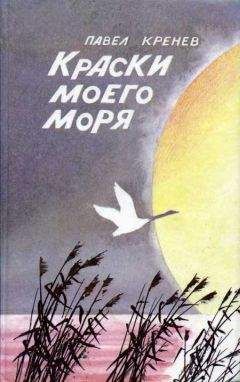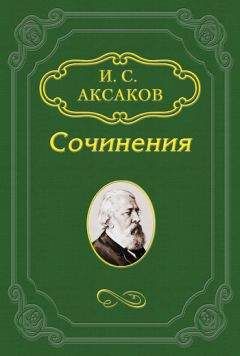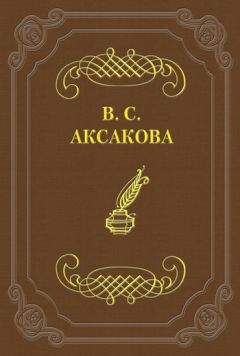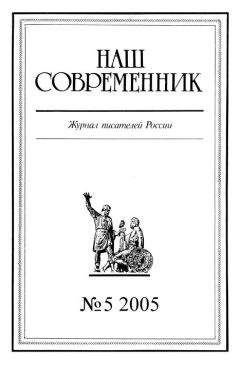Ион Деген - Портреты учителей
— Объясни мне, Боба, почему этот убийца оставил меня в живых? Единственного.
— Может быть, он забыл о твоем существовании?
— Нет. Недавно я получил письмо из института Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина с просьбой подтвердить авторство статьи «Мое кредо». Coco написал ее, когда мы были с ним в одной партийной организации в Батуми. Нет, он не забыл.
Я молчал, подавленный и испуганный.
И вот сейчас доктор Шастин преступил невидимую границу в моем сознании.
Даже после разоблачения Сталина, только его я считал виновным во всех наших бедах. Система была безупречной. Так я считал в ту пору.
Не помню, как это случилось, что я прочитал Владимиру Иннокентьевичу несколько своих стихотворений, написанных на фронте. Не более пяти-шести человек, самых близких мне, самых доверенных, слышали их после лета 1945 года. Доктор Шастин смотрел на меня с некоторым удивлением.
— Знаете, Ион, в вас одновременно живут два различных человека. Один — гнездится в коре головного мозга, мастерски промытой советским воспитанием. А второй, тот, который писал стихи, — в сердце. До него советская власть, к счастью, не добралась. Казалось бы, мозг должен быть умнее сердца. Ан нет. За ваши стихи вам вполне можно было в свое время пришить пятьдесят восьмую статью. Конечно, это была бы натяжка. Но ведь ваша прекрасная власть не останавливалась даже перед явными фальсификациями, чтобы только не пустовали лагеря и тюрьмы. Есть у вас что-нибудь послевоенное?
Я прочитал стихотворение, написанное, кажется, в конце 1956 года. В нем не было слова Израиль. Но не нужна была особая мудрость, чтобы догадаться, о чем я мечтаю.
Владимир Иннокентьевич ничего не сказал. Он только поощрительно похлопал меня по плечу.
Несколько дней спустя он вернулся к этой теме:
— Вы напоминаете мне странную глубоководную рыбу. Она привыкла жить под большим давлением, но с завистью смотрит на рыб, плавающих под меньшим давлением, под поверхностью. А ведь это ей противопоказано самой природой. Не знаю, прав ли был Пушкин, описав вскормленного в неволе молодого орла. Конечно, я рвался на волю из лагерей, из тюрьмы. На относительную волю.
Я — то ведь не родился в тюрьме. Но все мы родились в рабстве. Поэтому мне трудно представить вас на свободе. А впрочем… Знаете, Ион, я думаю, что ваши гены сильнее пропаганды, на которой вы вскормлены, которой вы промыты и подавлены. Заимствовав образ у любимого вами Маяковского, я могу сказать, что вас тоже можно выставить в музее. Интересный экземпляр большевика, не мозгом, а сердцем воспринимающего правду. Я уверен, что вы придете к ней и мозгом. Не знаю только, к чему это приведет при вашем темпераменте.
Мы вместе дежурили первого мая, и я прочитал Владимиру Иннокентьевичу стихотворение, написанное накануне. Оно так и называлось — «Ночь в канун Первомая».
— Ну, знаете, я надеюсь, что вы не станете читать его публично? Даже при нынешнем либерализме его вполне и не без оснований можно считать антисоветским.
Меня удивила такая реакция. Я был уверен в том, что написал это стихотворение в полном соответствии со своим коммунистическим убеждением. И только после разговора с доктором Шастиным я вдруг увидел стихотворение в другом свете.
Я стал часто бывать в его доме. В ту пору мы создавали ружье для подводной охоты. Однажды, когда я уже собрался уходить, он попросил меня остаться на ужин. Я отказался, сославшись на уважительную причину. И, тем не менее, Владимир Инокентьевич был необычно настойчивым. Уже достаточно хорошо зная его чуткость и деликатность, я понял, что у него есть еще более уважительная причина удержать меня.
Кроме Владимира Иннокентьевича, его жены, дочери и меня, на ужине был молодой человек, от которого красивая дочь не отводила влюбленного взгляда. Владимир Иннокентьевич всячески старался разговорить молодого человека, что удалось ему после второй или третьей рюмки водки.
Провожая меня до двери, Владимир Иннокентьевич долго и эмоционально благодарил меня за то, что я остался на ужин.
На следующий день он завел разговор о вчерашнем вечере. Он пытался выяснить, какое впечатление произвел на меня молодой человек.
Я сказал, что даже не успел как следует разглядеть его. Владимир Иннокентьевич хмыкнул:
— Вы мне как-то сказали, что у вас выработалась привычка мгновенно оценить человека, задав себе вопрос — взял ли бы я его с собой в разведку? Ну, так как, взяли бы вы его с собой в разведку?
Я пытался увильнуть от ответа, сказав, что был изрядно уставшим, что хлебнул лишнего и еще что-то в этом роде.
— Знаете, Ион, чем чем, а талантом финтить Господь вас не наградил. Мне этот тип тоже не нравится. Но я решил проверить себя. Все-таки отец, мог и ошибиться. Поэтому мне так хотелось, чтобы вы познакомились с ним.
Несколько дней спустя, когда я пришел к Шастиным, Владимир Иннокентьевич обратился к дочери:
— Тащи, пожалуйста, водку. Предстоит мужской разговор.
Мы сели за стол.
— Знаешь, доченька, Иону Лазаревичу твой избранник тоже не пришелся по душе. А Ион Лазаревич очень чуствительная лакмусовая бумага на плохих людей.
— Владимир Иннокентьевич, я вам ничего не говорил.
— Не говорили. Так скажите сейчас.
Я молчал.
— Вот видишь. У Иона Лазаревича привычка говорить хорошее даже черт знает о ком. У него даже негодяи ходят в хороших. Именно поэтому мне хотелось, чтобы от такого человека ты услышала мнение о своем избраннике.
— Это ни к чему. Я его люблю.
— Отлично. Это великое чувство. А ты уже жила с ним?
— Папа, ну как ты можешь?
— А ты поживи, доченька, поживи. Может быть, это поможет тебе прозреть. Может быть, только плотское влечение ты считаешь любовью. Попробуй.
Не знаю, кто чувствовал себя более смущенным, дочка, или я, воспитанный на традициях расейского домостроя. И вдруг отец, — не кто-нибудь, а отец! — говорит дочери такие вещи.
И, словно этого было мало, Владимир Иннокентьевич продолжал:
— Чего тебе бояться? Есть противозачаточные средства. А даже если забеременеешь и захочешь сохранить ребенка, мы достаточно состоятельные люди, чтобы воспитать его без такого отца, который только искалечит жизнь твою и ребенка. Не торопись, доченька. Замужество — акт ответственный.
Увы, не часто внимают дети советам даже исключительных отцов. Ее замужество оказалось просто несчастьем. Уже в первый месяц выяснилось, каким подонком был ее избранник.
Общение с доктором Шастиным ломало стереотипы в моем сознании. До встречи с ним я был уверен, что ни один воин Красной армии не имел права сдаться в плен. Я бы ведь не сдался. Именно с этой позиции я судил всех, кто был в плену. Но ведь Владимир Иннокентьевич фактически тоже был в плену. Или то, что произошло с ним, не было пленом? Конечно, было. И вовсе не надо было находиться в лагере для военнопленных. Почему же я считал преступлением то, что мое государство совершило по отношению к доктору Шастину?
Только лет через пятнадцать появится «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, а вслед за ним — поток литературы в «самиздате» о сталинских лагерях.
Даже в Израиле социалистическое руководство страны и партийные функционеры чинили непреодолимые препятствия благороднейшему талантливому Юлию Марголиу, многие годы пытавшемуся опубликовать свою страшную книгу «Путешествие в страну Зека». (Лично мне эта книга, написанная в 1946 и опубликованная в 1959 году, кажется более значительным литературным произведением, чем «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына).
Поэтому рассказы доктора Шастина производили на меня ошеломляющее впечатление. Ко всему еще, они разрушали в моем сознании такое стройное здание моего марксистско-ленинского мировоззрения. Очень жаль, что я тогда не догадался хотя бы конспективно записать эти рассказы. Многое забылось. Многое оказалось типичным для «страны Зека» и описано «обитателями» этой «страны». Но один из рассказов доктора Шастина я осмелюсь воспроизвести.
Я уже знал, что ему пришлось перенести в армейском СМЕРШЕ, в тюрьме до так называемого суда, в лагерях, карцерах и пересылках. Поэтому мне было понятно его определение «курорт», которое он дал периоду работы хирургом в лагерной больнице.
Лично для него главным достоинством «курорта» оказалось не улучшение быта в аду, а возможность быть полезным зекам.
Дело даже не в том, что все свои врачебные знания и умение он в полной мере отдавал больным и заключенным. Он придумал, как можно спасти некоторых особо неугодных арестантов от этапа в лагеря усиленного режима. Для этого он госпитализировал их и даже производил какую-нибудь легкую, разумеется, ненужную операцию.
Около года деятельность доктора Шастина оставалась незамеченной. Даже рассказывая мне эту историю, он не знал, на чем тогда погорел. То ли случай с бывшим генерал-лейтенантом привлек к нему более пристальное внимание, то ли кто-то «стукнул».