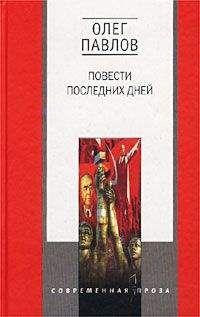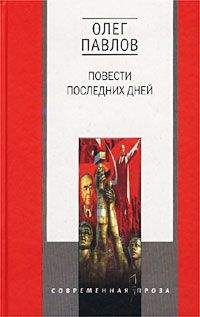Олег Павлов - Дело Матюшина
Вечером того же дня на зону уходил взвод Помогалова, но замполит оставил старшину в роте и вместо него назначил сам себя начальником караула. Это событие никого не обрадовало. Ведь этот месяц Арман только считанные разы ходил начкаром и каждый его выход в караул был особым, а теперь на службу заступали двое новых солдат. Матюшин получил в оружейке автомат, строился со всеми на плацу, но от известия, что заступают они с Арманом, чувствовал себя подневольным да виноватым. Караулка оказалась похожей на улей, даже внутри все было как вощеное и пахло сладковато. Только вместо цветов, куда летают пчелы, были вышки. Перед уходом наряда на зону Арман приказал всех обыскать, будто б они не охранять шагали зэков, а сами были зэками. Чего ради шмонали, осталось Матюшину непонятным, ведь и уходили они из караулки какие есть, ну, разве вооружились. Поставили его на «троечку», как называли эту вышку из-за ее третьего номера на лагерном круге, – тихое болотное место, где работал в лагере заводик и ограждения проглядывались как на блюде. Но, кроме стены заплывшей заводика, ничего-то Матюшин не увидал. Зона была запертой стенами, невидимой и с вышки. Во вторую ходку, уже ночью, черное болото вокруг заводика встретило Матюшина глухим беззвучием. Были видны в огнях ограждения, но слышался только шорох шуршащий воздуха. Вмиг почудилось Матюшину, что за каждой тенью кроется молчаливо что-то живое, почти человек. Оттого, что ничего не слышал, он будто б глох. А потом ему стали мерещиться вдруг и звучки, перебежки в ночи, стуканья да шаги. В этом бреду спустя время он увидал, не слыша шагов, две тени на тропе наряда, уже близко у вышки, но различил через мгновение на голове одного фуражку и понял, что одним из этих людей был Арман. Тот поднялся в молчании на вышку и заставил отвечать, почему не было им навстречу окрика, а сам пытливо зло вглядывался, не веря, что Матюшин их видел и только забыл закричать. Ни жив ни мертв, он отстоял смену и воротился в караулку, мучаясь уже от своей глухоты и боясь теперь о ней сказать. Но после этой ночи, перед новой ходкой, попал в помещение начальника караула, откуда его не отпускал Арман, продолжая уже поутру ночной допрос. Думая, что уж скажет правду, Матюшин сознался, как помешала ему охранять на вышке глухота. Арман слушал его, но отчего-то кривился, а потом вдруг на полуслове оборвал и сказал уходить. Когда ж минули в тягомотном долготерпении все сутки караула, Матюшин успел обвыкнуться с прошлой ночи, жалея уже, что пожаловался и снова запутал замполита. Однако ж Арман, позабыл он эти сутки или нет, давал знать о себе после них, разве взглядывая иногда на Матюшина, когда все солдаты строились или пробуждались, а он сам по себе присутствовал на плацу, в спальной зале, – и сказанное в помещении начальника будто б кануло без следа.
После прошлой черноты, пустоты лагерная рота казалась почти свободной. Можно было идти в любую сторону, останавливаться и разговаривать. Жизнь в ней была одинокой, покойной. Матюшин, начав служить, отвык неожиданно от людей, потому что сутки в карауле ходили да спали, будто волки, поодиночке, а возвращались в уже опустевшую казарму, где поневоле снова ходили волками – ночевали, ели, снова спали, а потом уходили, освобождая логово это другим, которых видели только десять минут во дворике караула, на разводе, где брали из рук в руки, что кирпич, охрану зоны. Все ото всех хранили тайны, прятались. Кто послужил, наглухо молчали да чуть что сами затыкали рот. От этих тайн свойских караулка казалась темной, дремучей, но темнота в ее глухих, без оконец, помещениях и была всегдашней, а потому Матюшину давно покойно чудилось, что и он плавает в той темноте, будто рыба в воде.
Матюшину знакомой была уже вся местность вокруг лагеря, но сам лагерь невозможно было никак охватить взглядом. То он казался одной стеной, стоял угловато, надвигаясь рылом, то чудилось, что лагерь – это даже шар, круглый, а потому неуловимый взгляду. Однако, что скрывается в том шаре, было еще непостижимей. В одно воскресенье по приказу Армана проводили в роте спортивный праздник – надо было прыгать, бегать, хоть могли б отдыхать, как и положено по воскресеньям. Праздник выпал как раз на их второй взвод. Неизвестно отчего, но соревноваться в беге Арман посчитал нужным в виде круга или по кольцу, а избрал таким кругом-кольцом зону и послал узбека с деревянной метровой шагалкой обмерить, сколько в ней. Этого зверя сразу в роте пуганули, чтобы намерил побольше и поменьше стали б бегать. Зверь воротился, лопотал он про полтора километра, и Арман сказал, что побегут они тогда три километра, то есть два круга. А сколько ж настоящих метров вокруг зоны намерил, узбека никто не спрашивал, да он и старался обманывать, а не мерить. Праздник начался, они пробежали три километра. Но даже если в том круге был хоть километр, а он-то был, Матюшин видел с вышки только пустырь запретки да стену куцую заводика, зоны рабочей, остальное ж куда-то исчезло.
Зона тягостно вылазила из старой шкуры, обновлялась. Теперь в ней начался большой перемот – валили со столбами полосы старых проволочных ограждений. Проволоку на смену завезли, она лежала в тугих стальных скатках, чудная всем, и солдатам, и зэкам. Говорили, что она нового образца, еще неведомого, а называлась «егоза» – струнками не висела, как старая, а вьюжилась кругалями и должна была сжаться и распрямиться – не зацепить, а разорвать, попади в нее человек. Железные сваи с крюками ставились на смену деревянным столбам под нее, под эту «егозу». Старые проволочные ограждения, обобрав с них бревна, как с рыбицы косточки, стали сматывать, как если б лепить из проволоки комья. Поработал и Матюшин со взводом. Всем выдали рукавицы – и они стали скатывать проволочную дорожку, метра в три шириной, и скоро ком колючий, ржавый вырос выше человеческого роста, так что они налегали под ним муравьями. Когда было уж вовсе невмоготу, концы проволоки перекусили, подметали и взялись начинать по новой. Скаток выросло до обеда штук шесть, их выкатывал назавтра из укреплений второй взвод. Снова пришлось потрудиться и Матюшину. Зэки должны были доделать в укреплениях сварку, а он только сменился с вышки, был свободным, и Помогалов взял его с собой; он их гонял, чтобы работали, а Матюшин сидел в сторонке с автоматом, приглядывал. Старшина употел покрепче тех работяг и в конце от души радовался, что успели они управиться. У них был бригадир, который почти не работал, но которого все слушались, – он лежал, завернутый в бушлат, какой-то больной, в теньке под вышкой и общался с бригадой. Он попросил у старшины разрешения сготовить перед уходом бригады в зону чифиря. Помогалов разрешил, подсел к ним, когда стали разводить огонек на бросовых тут повсюду щепках. Матюшин сидел шагах в пяти от огонька и удивился, как старшина по-свойски разговорился с зэками, даже смеялся, и скоренько они захмелели, пустив прокопченную жестянку в круг, так что когда конвоировали их на вахту, в зону, то пришлось чуть тащиться. Старшина, подметив, что Матюшин теряется, отчего они берегут зэков и тащатся, сказал ему, прохаживаясь рядышком, добрый, как на прогулке:
– Зона ведь тоже для людей, да и строят ее люди, а людям надо давать пожить, как лошадям овса, это французики, кто не понимают, – вон, как наш арманишка.
– А чего они такие пьяные, с чая ужрались? – спросил тихо Матюшин, будто б это было тайной, и Помогалов вдруг развеселился.
– Ты поголодай недельку, съешь котлетку – будешь, как они, пьяный. Или в подвале просиди месяц и увидь белый свет, тоже будешь пьяный. Люди пьянеют от того, чего у них нету. А вот у меня все есть: хозяйство, здоровье, жена, служба, девчоночка моя, я море выпью – мне будет свежо и весело! К тому наша страна и стремится, к победе коммунизма, чтобы у всех все было.
Матюшин запомнил душой тех пьяненьких от простого чая зэков, но случилось ему стоять на своей точке и засечь, как двое заключенных, вышедших из цеха, разожгли посреди белого дня костер. На пустыре, совсем близко к запретной зоне, устроилась от заводика свалка металлолома. Давно он приметил с вышки бесхозную железную бочку, что стояла всегда на одном и том же месте, хоть ему чудилось порой ночами, будто б кто-то прячется в ней, подкатывается. Эти двое бродили мирно подле бочки, но неожиданно из нее изрыгнулось пламя и повалил черный дым. Матюшин тогда и проснулся, увидал дым, огонь – и зэков, что стояли уже у бочки и не отходили, будто грелись. Это было первое происшествие, застигшее его на болотной этой вышке. Если б зэкам сказали пожечь заводской мусор, но ничего они не жгли, да и холодно не было летом, чтобы греться. Они стояли и глядели, а бочка чадила. Матюшин взялся за тяжеленную трубку связи и доложил в караул. Спустя время из распахнутых ворот цеха выбежал в мундирчике надзиратель. Он подбежал к зэкам и, было видно, стал с ними говорить.
Посреди этого почти приятельского, издалека, разговорца рука его резко спрямилась в локте – и зэк, которого он ударил, повалился на бок. Контролер стал обходить его кружком да пинать. Другой зэк остался в стороне и глядел на это. Контролер попинал еще лежачего, запылил его и мирно пошагал в цех. Забитый поднялся сам. Постоял. Теперь они стояли, как разные половины, один – в золоченной от пыли робе, другой – нетронутый, черный. Матюшину ж почудилось, что зэки стоят и глядят на него, обернувшись к вышке. Потом они отмерли, закопошились, лениво черпая под ногами песок, подходя к бочке и бросая по горсти в огонь. Тушили. Когда потушили, поплелись в цех и больше не вернулись.