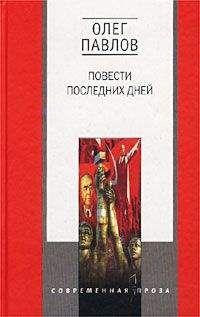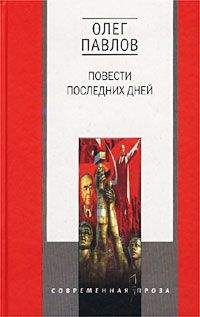Олег Павлов - Дело Матюшина
Через день Матюшин попал работать под вышку, где сменился угрюмый узбек и явился вдруг как из-под земли Дыбенко. Отбывал он на вышке как хозяевал. Достал из-под крыши конурки крепкую доску, уложил ее поперек, уселся с прямой литой спиной, так что казалось, будто стоит, и, изредка бросая сверху копошащемуся на полосе Матюшину по словечку, водил разговоры неизвестно с кем, глядя вперед, на зону. Матюшин слышал, сидя в яме заборов, их голоса, но не понимал, кто и откуда рядится с Дыбенкой. Над забором пролетела на вышку тряпичная скрутка, но не плюхнулась, верно была от груза тяжелой, и Дыбенко ее поймал.
– Ладно, валяйте! – крикнул он кому-то, распотрошив тряпку, поворачивая башку на волю. – Если кто отравится, братанов ваших потом пристрелю.
И пролетел на зону мешок защитного цвета, потом еще.
– А ты не пялься, тебе это рано! – рыкнул Матюшину, завидя, что тот обмер под вышкой и ждет.
За вышкой гудела и цокала невидимая станция. Стервами, как по часам, взвывали электрички. С час Дыбенко безмолвствовал, размышлял, глядел истуканом в зону, а потом ожил:
– Слышь, никого нету, слазий мне на станцию в магазин, возьми бубликов. Ты ж смертник. Ну, оплачивай должок! Да не тушуйся, ты не первый, бегали уже. Кидайся на забор!
Забор походил на задраенный к небу плот. Он шатнулся с кряхтеньем и накренился, когда Матюшин, одолевая волнение, полез вверх по скрепам его брусчатым, как по лесенке. Влез он на тошнящую верхотуру и оседлал забор подле вышки. Были видны пики ограждения, а за ними в упор, хоть расстреливай, битумная плоская крыша. На крыше, что отколовшейся от зоны льдиной почти подплывала к ограждениям и возлежала вровень с вышкой, насиживала краешек вороненая стайка зэков и задумчиво обозревала усеянное костьми рельсов поле станции. Дыбенко подбадривал для порядка, безразличный ко всему, что должно было произойти, кроме бубликов. Протянул на цыпочках бумажный ковшик из рубля. Указал низкорослый чумазый домик на станции, подле которого лежала под открытым небом куча бесхозная угля и росли ввысь метлами долговязые странные деревья. Матюшин огляделся судорожно, не увидал на всем этом просторе людей в погонах – и спрыгнул на тропу под собой. Осталось ему перемахнуть последний забор. Он уж не казался, как издали, стеной, а похож был и вправду на дощатые латки поверх воздушных дыр. Побег совершился. Он топтался под стеной в бурьяне, на пустыре железной дороги с холмом мшистым тупика. Зябко дрожал, страшась двигаться один без Дыбенки. Но тот исчез, вознесенный на вышке так высоко, будто спружинил, как с шеста, в самое небо.
Магазин внутри оказался комнатным. Пахло сдобой. Бегали по доскам пола мужиковатые тараканы. Дремал, глядя на них угрюмо с прилавка, пушистый мучной кот, верно, любимый у продавщицы. Было таинственно от темноты пыльных, слезливых окошек да залежней каменистых хлеба. Здесь торговала томная, в летах, женщина только хлебопродуктом. Стояли в очереди бабы. Солдату не удивились. Матюшин выстоял очередь, цепенея, когда распахивалась и хлопала за спиной его дверь, и вышел, пряча отмершие руки в пахучей муфте из бубликов. Быстро пробежал через пустырь и, набив их полную пазуху, полез еще тяжелей со взбухшим от бубликов брюшком на зону, думая кромешно, что не осилит и грохнется. Дыбенко, голодный, торопил его. Матюшин залез на вышку, выгрузился и, свесившись с вышки на руках, приземлился наконец на крепкую, твердую свою полосицу, ощущая такой покой и благодать, будто б и не слазил, а слетал птицей на станцию. Дыбенко рвал бублик зубами, что-то хорошее бубнил – и скинул ему, раздобрев, двойку бубликов, в которые Матюшин, чувствуя теперь сосущий голод, впился и не заметил, как съел.
После работ, вместо сна, старшина позвал в канцелярию, выдал по чистой тетрадке и с час начитывал из устава, что такое есть караульная служба, переворачивая страницы, будто б лузгал от скуки семечки: высовывал руку из книжки, закидывал ко рту, сплевывал в щепотку, перелистывал. Урок заставил зубрить он же, старшина Помогалов. Бывая в роте, он звал к себе в канцелярию, сидя там то с автоматом, то с уставом. Стрелять Помогалов водил тайком, за сортир, на свалку, когда уезжал офицер, а говорить велел, если тот спросит, что бегали на стрельбище. Когда Матюшин первый раз выстрелил, то оглох и долго не понимал, что говорит ему еще сделать старшина. Будто обманутый, в беспамятстве, Матюшин вжался в приклад, которым его уже разок тряхнуло, увидел требуху свалки и отстрелял все оставшиеся патроны. Очередь вышла короткой, Помогалов мало забил в рожок. Убитый грохотом, будто в него и выстреливал автомат, что в железную бочку, в следующий раз стрелял он как по вытверженному, зная, что автомат требует силы, но столько же, сколько и простая мясорубка.
Бегал со взводом в степь, на стрельбище. Отстрелялся на «отлично», так что офицер, красуясь в одиночестве на холмике, громко его похвалил. Когда отстрелялись солдаты, то подошел к одному сержанту, таджику, который должен был стрелять, и сказал отдать ему автомат, встал в стойку, а не лег, да отстрелял подряд два рожка. Таджик чуть сдерживал то ли обиду, то ли гнев, но стоял подле него не шелохнувшись, с каменным лицом. Офицер, позабавившись, скинул ему на руки больше не нужный автомат, и после, так как стрелять сержанту было нечем, взвод побежал домой. В казарме, где чистили автоматы, таджик, которому офицер загадил весь ствол, кинул зло этот автомат под ноги и заплакал от гордости, никого не стыдясь. Матюшин услышал, как он цедил проклятия офицеру:
– Арман, сдохни твой мама, сдохни твой отец… Дети твой пусть дохнут… – И смирился с тем, что сделал с ним этот Арман, какую боль причинил, да стер с лица слезы, чуть не избив после, кто на него смел глядеть.
В роте оказался всего один солдат, что стрелял однажды по зэку, попал в него насмерть и съездил даже домой в отпуск. Помогалов частенько поминал его добрым словом, уваженный обедом. Гаджиев этот жировал в поварах, куда его отпустили с вышки, как на вольные хлеба, чтобы не лез на глаза зэкам: глядя на него, можно было подумать, что он до сих пор боится зоны и прячется. Ему нравилось глядеть из окошка раздатки, как едят. Бездумная его рожа, вечно плавающая в окошке вареным жиром, успела надоесть Матюшину. Но, когда узнал, что Гаджиев кого-то убил, готовка его и сам он сделались тошными, жирными. Гаджиев не понимал толком русского языка, умел говорить только по-своему. Пґовара не любил Дыбенко и прикладывал его, чуть был недоволен жратвой. А на сон грядущий, если и ложился спать недовольным, будто б голодным, рыскал одним и тем же задушевным шепотком:
– Убивать их надо. У зверей всегда так, они ж дикие. Зэки их поэтому боятся. Если увидят, что зверь на вышке, – поссать не встанут, лучше обойдут. Его ж кто знает, куда он пальнет, если вспугнуть. И если рот откроет – сразу в зубы ему, без разбору. Они так любят, балакает по-своему с улыбочкой, а сам ложит тебя, как хочет, и все они, звери, потом радуются. – И тогда Дыбенко со зла изображал их радость, гыкал да перхал…
Был июль. В середине его дожди сменились жарой, но степной, с раздольными ветрами и ознобом холодным ночей. Летняя легкая погодка стала вдруг отравлять жизнь. Ничего не видя, кроме работы да учебы, Матюшин думал снова самое худшее, застревал в одинокой тоске и скоренько возненавидел одного человека, китайца, который полюбил при построениях прятаться за его спиной и щипал по-бабьи сзади. Притом, когда Матюшин зло оглядывался, выругивался, он глядел на него онемело снизу вверх и не знал, для чего это сделал. Матюшину же казалось, что китаец нарочно над ним издевается. Ударить же сержанта он больше не смел, но и обсмеять в душе или же простить махонького китайца не мог, как вообще не умел заставлять себя менять настроение, зато мучился и воображал в бессилии, как чуть не разрежет китайца на куски.
Так безлюдно было в роте еще и потому, что в начале июля офицеры разъехались в отпуска. Командиром да и офицером единственным остался Арман; старший лейтенант, он оказался здесь недавно замполитом.
Помогалов был для него ничем, почти солдатом. На людях Арман никогда не говорил и потому, верно, пропадал весь день в кабинете. Однажды сказал он позвать Реброва, потом дошел черед до Матюшина. Арман встретил его с земляной сухостью в лице и смотрел прямей да строже, чем в первый их разговор. Он сразу заговорил, раздавливая, что Матюшин его обманул и прикинулся дурачком, а сам куда хитрее, но его еще никто не обманывал. Матюшин с усилием постиг, что же Арман называл обманом: речь велась о его семье, о том, что он скрыл, кто есть его отец. Арман все знал, как по-написанному, и говорил с особым ударением. Матюшину почудилось, что Арман будто знает отца и распекает его теперь, как если б он отца опозорил; Арман же стерпеть не мог одного того, что обманул его сынок какого-то еще полковника. Пока Арман произносил речь, Матюшин не сопротивлялся и затравленно молчал, но стоило пройти времени, как начал он вдруг каменеть и твердить наперекор, что врать сам не любит и не врал, а душу выворачивать наизнанку первому встречному не обязан. Что отца не было у него и нет, что это и не отец его родной в Ельске остался, а другой муж матери, которого он знать не желает. Случилось это с Матюшиным, когда он осознал, что старший лейтенант произнес о нем, что он дурак. Арман отступил, и в глазах его вспыхнуло удивление, даже удовольствие – солдат стал ему неожиданно любопытным. Разговор остыл. Было понятно, что присутствует в нем кто-то незримый, третий, кто рассказывал здесь, в кабинете, о Матюшине и тоже знал правду. Потому замполит остыл, как застопорился, и теперь ему невозможно было спросить Матюшина сразу о земляке, чтобы и Матюшин порассказал о нем, о Реброве. Но одинаковыми эти два солдата уже перестали для него быть.