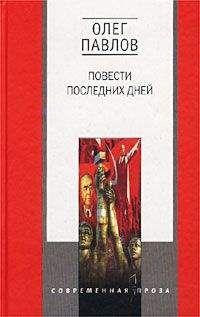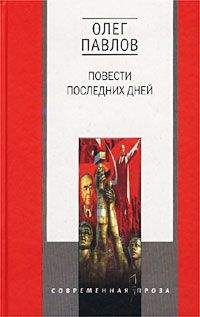Олег Павлов - Дело Матюшина
– Курить есть? Подбрось, выручи!
– Да как же она долетит? – задрал голову мужичок, но готов был удружить и топтался подле забора.
Это и было понятно, но Матюшин жалел одуматься, а мужичок стоял так близко, что сил не было его упустить, да еще хотел тот помочь, и позвал:
– Ты хоть подойди, тут вот щелка есть.
До соседних вышек метров по двести. Соображая с опаской, как бы не попасть на глаза, он уверился, что видно было размыто одну конурку. Если что и могло устрашить Матюшина, так это то, чтоб человек не оказался вертухаем или офицером из лагеря, но вида мужичок был самого простого, работящего, а шагать в такое время на станцию офицер или вертухай все же не могли. Дело было в одной минуте. Он слетел на тропу. Мужичок боязливо просунул в щель папиросу, сам волнуясь, и у забора, так как не было своих спичек, скоренько Матюшин подкурил от его окурочка. И разлетелись они, одинаково чувствуя в душе облегчение.
Блаженной той легкости, когда пыхтел сжатой в кулаке папироской, горячей, будто с пылу да с жару, и глядел вдаль на уходящего по утренней невесомой дороге мужичка, хватило Матюшину ненадолго. Он искурил в прах папиросу, а мужичок уж успел исчезнуть, когда послышался неясный шум, идущий от караулки, и скоро на тропу выбросился, как со дна морского, бегущий сломя голову, гремящий железно автоматами наряд солдат. Он увидел бунчук антенны и рацию у одного за спиной, увидал фуражку, задратую от ветра, Помогалова и захолодел, думая не иначе, что где-то на периметре лагерном совершился побег. Бегущая толпа схлынула под его вышку и встала безмолвно, будто б отдышаться. Но никуда они дальше не побежали, а глядели на него зло и удивленно с тропы. Помогалов поправил фуражку и не спеша уже стал подниматься, крикнул с угрозой отворить дверку, будто он не стоял часовым на вышке, а заперся и держал против них оборону.
Поведя в напряженной тишине носом, точно пожарник, Помогалов почуял горелое и успокоился.
– Ну что, сука, хорошо покурил? Знаешь, что за такой перекур бывает? А за куревом куда, на зону, что ль, ходил? Что курил, травкой балуешь? Поняли… Играем в молчанку…
Старшина сошел тяжеловато с вышки, больше ничего не говоря, и наряд пошагал обратно по тропе к караулке. Матюшин достоял смену. Когда сменяли, то солдаты, уже новые, пялились на него и молчали чудно, будто сговорившись, а потому молчание это походило на шуточное. Он даже поневоле разок улыбнулся, глядя на их чудные лица. Все знали, что он сбегал с вышки за куревом, но не знали, куда сбегал и что там курил, а сам Матюшин и не понимал, отчего подняли караул по тревоге, отчего повскакивали и прибежали с рацией под его вышку.
В караулке старшина его все же наказал, но наказание это показалось опять же шуточным – чтобы он кирпичом отскоблил в нужнике две чугунные параши. До того он ни разу не опускался драить парашу, но все видели, куда отправился он исполнять с кирпичом в руках приказ старшины. Покуда он драил, никто не сходил даже по нужде, кроме самого Помогалова, что сел перед ним не стесняясь и только беззлобно посмеивался, утяжеляя поневоле или же с целью воспитания эту грязную, тупую работу, да приговаривал:
– Извиняй, сынок, стало невмоготу. Мое говно здеся не чужое, сам понимаешь. А курил-то что? Ну, помолчим тогда, помолчим…
Посреди дня, а он еще не отбыл целиком наказание, потому что отлучался и снова заступал в свою смену на вышку, в караулку явился Арман – верно, происшествие было такое, что его давно поставили в известность, он обо всем знал. Он приказал найти замену, отослать без оружия в роту и тут же ушел. Окликнутый старшиной из нужника, Матюшин услышал от него приказ замполита, был отпущен из караула и пошагал одиноко в казарму, где поджидал его дневальный, пиная тазик с тряпкой, чтобы мыть начал полы. Думая, что это продолжается наказание, Матюшин сбросил китель, чтоб не замарать, и ползал с час на полах, выбегая к летнему умывальнику сменять воду в погнутом алюминиевом тазу. Бегая так, он повстречался с Карповичем, которого давно позабыл и вот уж месяц виделся только на разводах в карауле. Тот остановился, никуда не торопясь, и грустно на него поглядел.
– Как у тебя дела, слышал, устроил на зоне заварушку. С твоим делом решили, больше в караул не пойдешь. Арман хочет сделать тебя вечным уборщиком, так что думай, хитрый малыш.
Матюшин отвернулся и пошагал домывать казарму, чувствуя ознобисто спиной, что провожает тот, глядит вослед. Вечером же на поверке Арман сказал вышагнуть из строя и объявил первому взводу, что до конца службы Матюшин не будет ходить в караул. А потом и второму взводу, на другой день, тоже приказав выйти перед строем, объявил, что назначает до конца службы Матюшина вечным уборщиком, что таким, как он, нет места в карауле и что таких, кто вступил в незаконный сговор с заключенными, теперь будут расследовать и судить.
В воскресенье вместо бани повезли в военную прокуратуру. Ехали в Караганду на автозаке, в той же каталажке, прикрепленной для перевозок этапных к роте, и отвозил его снова старшина, но молчаливый и злой, зная уже, что послал его замполит в прокуратуру даром, только б попугать солдат. Матюшин же был рад, что дождался хоть этого события, чувствуя себя похороненным заживо и оболганным все эти дни, которые выставлял его Арман, будто уродца, напоказ. Он знал, что ни в какой преступный сговор не вступал, да и не понимал, так до конца и не понимал, что же это такое, в чем его обвиняют.
Двухэтажный старый особняк прокуратуры походил на курятник или хлев, пахнул землей и насквозь – даже летом – простыл и загнил, так что ступал Матюшин по скрипучим дощатым его полам со страхом, что они развалятся, с удивлением разглядывая двери, у которых сидели болезного вида солдаты, ожидая приема, как у врача. Дежурным следователем оказался молоденький лейтенант, худой, с востроносым лицом, который радовался, что у него родился прошлой ночью сын, и устало глядел бессонными глазами, стараясь вникнуть в бумагу, присланную с Матюшиным, поневоле начиная допрос. Помогалов сидел подле на стуле и извинялся. Через три слова выяснилось, чего Матюшин не знал, что в то утро сработала на дверке его вышки блокировка, которая и подала в караулку сигнал. Лейтенант глядел на него и не верил, что караульный солдат не знал о таком сигнале тревоги. Матюшин же сознался вдруг, что открывал и закрывал дверку – сбегал под вышку по нужде. Помогалов гаркнул на него, застыдившись, да засобирался уезжать, вскочив со стула и начав крыть своего замполита, что сделал из него тут, в прокуратуре, дурака. Лейтенант его пожалел и кивнул на Матюшина:
– Ну, хочешь, батя, выйди проветрись на часок, счас мы из него выбьем, по какой он нужде ходил.
– Ясно по какой, по малой! Это он не дурак… – отмахнулся в сердцах Помогалов. – Да ничего только вы из него не выбьете, гляньте, из такого и пылинки не выбьешь-то. Это французики, кто не понимают, вот кого надо учить, бить их мордой об стол. У них, вишь ты, все были офицеры в роду, наполеоны хреновы, а сам же хаживал солдатиком, Арманишка, в таком же конвойном полку, едал эту паечку, это он только для виду, что не знает, откудова она такая!
V
И потекло в дремотной возне его времечко. Матюшин скоро устал следить за собой и опустился, бросив каждый день стирать обросшую грязным салом гимнастерку и надеяться, что Арман его простит, отпустит снова служить, да и внешнего вида этого с него больше не спрашивали. Солдатская гимнастерка, как и должно было, превратилась в помойную робу, которую справней выходило даже таскать без ремня. Скоро он стал на подхвате у Гаджиева в столовке, мыл и там полы, котлы, носил отходы из столовой на свинарню, где в хлеву был уж на подхвате у свинопаса, тупого зверя. Ротная свиноматка давно дала поросят, которые вовсе не росли, мелькали и тут, и там, похожие на облезших собачек с хвостиками, волоча под собой грыжи, огромней их тощих животов. Зверь боялся своих свиней, и, когда разбегались у него поросята, Матюшин бродил за ними по расположению, покуда всех не отлавливал.
Арман же приказывал дневалить вечно и ждал только того, чтобы он ослушался, а ослушаться у него уж и не было воли после всех этих месяцев, да и сил. Он только не давал себя солдатне бить и если кто-то лично хотел заставить его услужить, сдавшись однажды только перед китайцем. Дожо непонятно дружил с инструктором служебных собак. В роте был вольер для них, свой мирок на отшибе – огороженный рабицей выгул, где даже росли свои яблони, сараюшка или клеть четырехкамерная, где держали овчарок летом, и пристроенная к вольеру, так что только через вольер и возможно было в нее зайти, зимняя дачка. Инструктор все хотел приказать, чтобы убирал у него за овчарками. Но было, что Матюшин сцепился с ним. Тогда объявился Дожо, настиг его в безлюдном месте, стал щипать уже со злостью и шипеть, чтобы он отныне каждый день ходил убирать в собачий вольер и слушался инструктора.