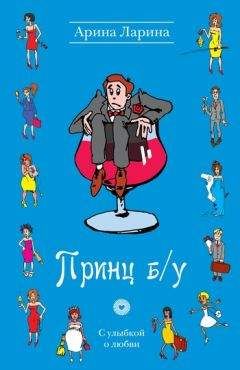Маргарита Симоньян - В Москву!
Виолетта Альбертовна одна воспитывала двадцатипятилетнего сына. Сын был бездельник и хам. Поэтому Виолетта Албертовна на каникулах ездила в Польшу за позолоченными трусами, а потом продавала их на толчке в свободное от СРЯ время. Деньги она отдавала бездельнику.
— Иначе пойдет воровать, — говорила Виолетта Альбертовна. — Мне же дороже выйдет — ментам и судьям платить. И почему я не родила дочку? Лучше уж доставать дочку из кустов, чем сына из тюрьмы.
Надо было слышать, как доцент Виолетта Альбертовна врала покупателям про свой товар. Ходит по ряду придирчивая матрона, прижимает к груди кошелек. Подходит к Виолетте Альбертовне и тычет пальцем в желтый квадратный костюмчик, такой же, как восемь других ее желтых квадратных костюмчиков.
— Италия? — с недовольным видом спрашивает матрона.
— Конечно, Италия! — отвечает Виолетта А льбертовна с отрепетированным энтузиазмом. И та, и другая, конечно, знают, что Италия там и рядом не валялась, как выражалась Виолетта А льбертовна.
Матрона подолгу вертит в руках квадратный костюмчик, проверяя швы. Потом идет примерять. На время примерки Виолетта Альбертовна, растопырив руками плед, прикрывает тело матроны от посторонних глаз. От этого у нее затекают руки.
В конце концов, матрона появляется из-под пледа, поправляя лифчик, с безразличным видом, чтобы продавщица вдруг не подумала, что костюмчик матроне понравился.
— Ну, это, конечно, не Италия, а галимый Китай, — сообщает матрона, бросая костюм на прилавок.
— Какой Китай, ты посмотри, там написано «мэйд ин Италия» — защищается Виолетта Альбертовна.
— Ой, на заборе тоже кое-что написано, и что?
— Да я тебе сыном клянусь, что Италия! Я весь товар сама вожу из Милана, ты мне не веришь, что ли?
— Ой, да ты клянись кому другому. Швы кривые, а она мне чешет — Италия!
— Ты посмотри на нее — не верит! Сыном клянусь единственным! Где кривые, где ты нашла кривые? — наступает Виолетта Альбертовна, вертя в руках юбку от костюма. Матрона показывает кривой шов. Виолетта Альбертовна упирает в бок толстую руку в кольцах из дутого золота и меняет лицо оскорбленной комсомолки на лицо выпившей проститутки.
— И что теперь? Подумаешь, цаца какая! Шов ей кривой! Его и не видно совсем. А она прямо Италии захотела! Да ты знаешь, сколько Италия стоит? Ты где вообще на толчке Италию видела? Может, мне расскажешь, так я щас тут брошу все, сама туда побегу. Ишь — Италию ей за семьсот рублей подавай! Насмешила!
— Шестьсот пятьдесят!
— Семьсот! — кричит Виолетта Альбертовна. — Я их беру сама за семьсот двадцать, просто стоять здесь надоело, поэтому за семьсот отдаю!
— Ну, так и стой тогда до вечера!
Покупательница уходит и часа через два покупает такой же костюм за восемьсот.
Впрочем, в тот день у Виолетты Альбертовны все же купили пару трусов. Она перекрестила деньги и побежала домой готовиться к завтрашней лекции. На выходе с толчка Виолетта Альбертовна столкнулась с Педро и Димкой.
— Как торговля? — спросил Педро.
— Хреново, — ответила Виолетта Альбертовна. — Учите, мальчики, орфоэпию — у вас по ней будет экзамен.
— Времени нет, Виолетта Альбертовна. При всей любви к орфоэпии. Жрать-то надо, — ответил Педро.
— Ну, ничего, ничего, — сказала Виолетта Альбертовна. — Когданибудь эта хрень в нашей жизни закончится.
Со вчерашнего вечера Педро и Димка разгружали на толчке машины с тюками шмотья. За ночь они заработали по десять президентских стипендий каждый.
Толик толкнул скрипучую дверь, и комната триста пятнадцать распахнулась запахом лука и несвежих футболок. Нора пыталась из четырех картофелин, двух луковиц и одной привядшей сардельки сварить суп на четверых, трое из которых — растущие мужские организмы. Вот-вот должны были вернуться с толчка голодные Педро и Димка.
Толик присел на корточки на пол — перед ним был синий пластмассовый тазик, в котором он принялся стирать свою единственную рубашку. Толик стирал прилежно. Нора знала, что завтра, когда рубашка высохнет, он так же прилежно будет ее наглаживать. Мать приучила Толика, что на рукавах рубашек не должно быть стрелок, на столе — крошек, на покрывале — морщинок. Он с детства был уверен, что это и есть тот минимум, который отличает порядочного человека от скота.
Заскрипела дверь.
— Доброе утро, подонки, — поприветствовал Толик. Педро с Димкой, ничего не ответив, пошатываясь, рухнули на свои кровати. Левая рука у каждого была согнута в локте.
— Вы что, опять кровь сдавали? — возмутилась Нора. — Вы же только неделю назад сдавали! Нельзя же так часто!
— Нас наебали на толчке, — объяснил Педро. — Дали в два раза меньше, чем обещали. А я Джонику за траву должен отдать сегодня.
Донорство было главным источником денег для Педро и Димки. Стипендии студентам хватало на жизнь впроголодь в течение дней четырех. Впрочем, Педро и Димка были троечниками, и стипендии никакой в любом случае не получали. А за порцию крови в больнице платили в расчете на то, чтобы донор мог купить себе шоколадку и бутылку кагора — восстановиться. Педро и Димка находили этим деньгам лучшее применение.
— Если бы я родился раньше, я успел бы быть комсомольцем, и моя кровь стоила бы дороже, — устало сказал Педро.
— С чего ты взял? — спросила Нора.
— Потому что это была бы комсомольская кровь. А так кому нужна моя паршивая кровь? Ни стыда в ней, ни совести. Только пиво и трава.
Педро вяло потянул на себя гитару. Димка стянул заношенные джинсы и спрятал покрытые длинными черными волосами белые ноги под стол. Он вытащил из спортивной сумки блокнот и снова стал туда что-то записывать еле видимым мелким почерком.
— Ну вот, философ опять сел писать, — улыбнулась Нора. — Что ты там все пишешь? Умные мысли? Я тоже раньше записывала умные мысли, но потом я выросла, и это прошло.
— Иди на хуй, Нора.
— Димка, ты что? — испуганно сказала Нора.
— А ничего. Просто иди на хуй, и все, — спокойно сказал Димка совершенно не своим голосом. Он встал из-за стола и вдруг с силой стукнул по нему кулаком, так, что посыпались его блокноты и по полу разлетелись листки. И резко вышел из комнаты.
Вечером Толик убежал покупать цветы новой девушке, про которую он уже третий день думал, что она — лучшее из всего сотворенного Господом после Евы. А может, и до.
Над общежитием громыхало:
— Халява, ловись!!!
Это студенты согласно традиции просовывали в форточки открытые зачетки и взывали к богам сессии, чтобы те обеспечили им сонного, полуслепого, рассеянного экзаменатора с энурезом — чтобы часто выходил в туалет и можно было в это время списать все ответы.
— Иди хоть халяву полови, Педро, — сказала Нора.
— Да ну их всех в жопу. Если меня не отчислят, я сам уйду. Задолбался слушать этих идиотов коммунистических.
— Ты так странно живешь, Педро, — сказала вдруг Нора то, что давно хотела сказать. — Тебе как будто вообще ничего не нужно.
Педро задумчиво посмотрел на свои грязные ногти и сказал:
— Мне нужно только, чтобы мне было нескучно. А мне скучно, понимаешь? Жить скучно. Тебе разве не скучно?
— Нет, — ответила Нора и подумала, что, если бы Борис хоть раз позвонил, ей было бы еще нескучнее.
— Конечно, куда вам с Толяном скучать. Вы тогда за презервативами бегать не успеете. Ладно, не обижайся, — сказал Педро, хотя Нора не собиралась обижаться.
Нора взяла сигарету, подкурила ее медленно, подошла к окну, выглянула, не увидела во дворе ничего интересного, обернулась обратно и долго смотрела в захватанное зеркало, висевшее над диванчиком Педро, выпуская дым в свое отражение.
— Интересно, что из нас вырастет? — вдруг сказала она.
— А мне неинтересно, — отозвался Педро. — Из меня ничего хорошего точно не вырастет. И из Димки тоже. А из вас с Толяном, может, и вырастет что-нибудь. Вот мы с Димкой и будем на вас любоваться.
— А где Димка, кстати?
— Не знаю, я его с утра не видел. С тех пор, как он тебя послал.
Комната триста пятнадцать заснула, первый раз с весны, с закрытыми окнами. На полу и на стульях валялись отвыкшие от хозяев свитера и осенние куртки.
Ближе к рассвету Толик проснулся от истошного крика. Крик доносился из кухни и становился все громче и все страшнее. Толик, как был, в трусах, с шумом спрыгнул с кровати и рванул на кухню.
В коридоре хлопали двери и показывались заспанные лица — проснулся весь этаж. Толик за мгновение добежал до кухни. У дверного проема стоял Джоник из триста второй — музыкант и наркоман с первыми в городе дредами. Обеими руками он сжимал свои дреды так, как будто пытался выдавить из головы то, что сейчас увидел. Вопль, разбудивший этаж, вырывался откуда-то из глубины Джоника.