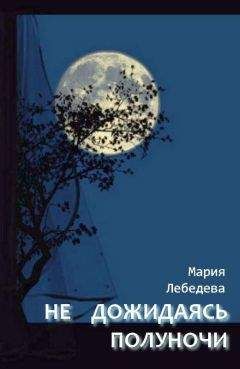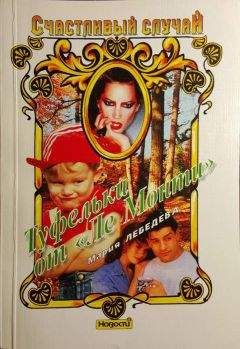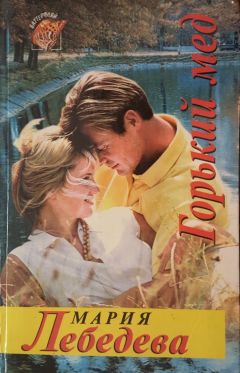Там темно - Лебедева Мария
Его маленькая жена вроде бы там и работала. Не жаловалась.
Он всем добра хотел.
Улыбался, когда чьё-то дёрганое, неулыбчивое лицо искажала гримаса, как будто от боли, или сонное, добродушное враз теряло всю свою благость: это значило, что попал точно в цель, посбивал их проклятую спесь, обозначил им горизонты, ведущие к правильной жизни. Нерассказанное поглощал, непридуманное отбирал, как шпаргалку, – сомнёт да и бросит подальше, не станет никто подбирать. Отнимал заранее то, чем они ещё не владели. Так чудище хрипло шептало царю: отдай, чего в царстве не знаешь. Чудище было не в курсе, что оно типа антагонист; может, оно по приколу просто шептало.
– Я одну отговорил писать. Стала бухгалтером. Пользу людям приносит. Благодарила меня, говорила: «Спасибо, что не потратила жизнь на свои бездарные книги». И ей хорошо, и искусству. Вы мне тоже спасибо скажете.
Букву напишешь – считай, коготок-то увяз, а увяз коготок – вы же знаете, что будет дальше.
История – ну конечно – придумана от и до, но он так в неё сам поверил, что стала почти что реальна.
В аспирантуру себе взял одного из немногих парней в группе, вроде способного, наверное, старательного, кажется, неконфликтного, вроде как всем приятель, про таких говорят: да, он славный, а после не вспомнят, о ком была речь. На семинарах обращался как будто бы только к нему – нет повода думать, что эти поймут. Для них ведь филфак – остановка, чтоб передохнуть, стать хоть немного поинтересней.
Он учил, как довериться буквам, числам, любым посторонним советам, да хоть голосам мертвецов. Точно знал: нужно слушать кого угодно, только себя – нельзя.
Ученик, кажется, соглашался. Ну или нет. В любом случае не отрицал.
Со стороны-то виднее; скорей уступи право думать кому-то другому, всю жизнь лишь мечись от Розенталева словаря к эффекту с таким же именем. Слушай, что умные говорят, слушай умных людей. Ну то есть всех, кто не ты.
Книги дробил на слова, чтобы себе объяснить, что в них бывает такого помимо известных приёмов. Так могли изучать пойманного единорога и с отвращением, со злостью – как же так – обнаружить: разъятый на части, тот гнил, как обычная лошадь.
Пушкина ставя вперёд, точно щит, сооружая броню из зелёного ряда томов – кремовые листы, профиль золотом на обложках, – он притом неустанно искал себе новых героев. Таких, чтобы принадлежали только ему, ведь Пушкин светил одинаково всем. Находил неизвестных поэтов (тут важно, чтоб жили давно), забытые романы превозносил как шедевры, неугодные вкусам толпы.
Поэт возвеличил судьбы деревни. Писатель – рабочие будни. Подвиг того, кто других убивал, потому что таков был приказ. Грех того, кто других убивал, потому что так сам захотел. Отвратительность пьянства, распутства и лени, счастье трезвости, брака, труда.
Если плохое было плохим, а хорошее было хорошим, только тогда он говорил: «Это по-настоящему важно». Мысль о том, что сам отыскал эту силу и немного присвоил себе, становилась его каркасом: делала твёрже его подбородок, давала опору губе. И губа забывала дрожать.
Мертвецы становились гораздо умнее и глубже, нежели были при жизни. Он любил раскопать кого-то из них, нацепить лавровый венец. Будь тоже живыми, в их сторону не посмотрел бы, но раз померли – короновал и втайне надеялся: кто-нибудь сделает то же, только уже для него.
Один мужик обожал мертвецов, потому что, сказать по правде, их было попроще любить. Они не умели ответить, но ведь и отказать не могли.
Ученик мужика, что любил мертвецов, был хорош, так как не был плохим.
– Как по писаному говорит. Ну умеет же, а! – восхищался руководитель.
Это он выучил паренька – к счастью, слушатель был благодарный – разговаривать витиевато, маскируя исходную суть. Называется – птичий язык, и сперва пареньку покажется чуждым, после будет как будто своим, подмены никто не заметит. Его речь строилась будто бы сплошь из последовательных гиперссылок; начинал об одном, а на деле кидался клубком в лабиринт до него построенных смыслов и туда же всех гиперссылал. Нить клубка никогда нервалась полусловом, не путался долгий рассказ, звуки складывались как надо. Достойный же был ученик.
Ученик даже опубликовал пару-тройку каких-то рассказов, добротных рассказов и гладких, точно галька на берегу. Где история шла от начала к концу, и была запредельно ясна мотивация всех персонажей. До последнего вымарал он возникшие кое-где штампы: штампы были точнее всего в этом мире, но их полагалось убрать. Никакой лишней детали, тема более чем серьёзна. Эпиграф из Пушкина, чтоб уж наверняка.
Он подвинул его мертвецов, и научный руководитель похвалил те рассказы в газете. В той статье он даже грозился их отослать на какой-нибудь местный конкурс (чем название пышнее, тем безызвестней; премии бросались в глаза именами, звучавшими ничуть не хуже кличек чистопородных собак, звенели фанфарами в головах дипломантов Радуги Поэзии Новой Эры, Лучшей Прозы Всего ЦФО, Верхневолжского Автора Тысячелетия). Ставил в пример графоманам. Но проклятые графоманы знать не знали каких-то газет и не слышали даже, возможно, ни о единой из премий.
Кира видела эти рассказы. Они вызывали двоякое чувство: как будто тебя ведут за руку, но и бьют по лицу, если руку стремишься отнять. Отец их запрятал на дальнюю полку – так чувствуют ложную безопасность, держа тайное подле себя. Вот они, но их как бы нет.
Полный список научных статей в графе «публикации» на сайте университета, под фото, где отец, подпридушенный синим атласом, смотрел утомлённо и тихо, и поблёскивал равнодушно металлический наконечник ручки, вечно торчащей в нагрудном кармане,
(которой писалось другое).
Как повыше, в строке «биография» – «женат, воспитывает дочь»
(одну пишем, вторую в уме).
За скобками было: стандартный ответ на вопрос «как семья?», складная речь о книгах. Указать, показать, предоставить.
В скобках скрывались: другой неучтённый ребёнок, короткая пауза в диалоге после: «Ты в юности что-то писал?» Отодвинуть подальше, не поминать – не только всуе, но и попросту вслух, за такое же не похвалят.
Только единожды упомянул что одно, что другое.
– Как-то раз, – заговорил он, – мне предложили отправить подборку в издательство.
И Кира замерла, сжалась, будто нет её, а осталось одно только желание знать, что случилось потом.
Отец помолчал.
Кире малость боязно спросить, но желание знать берёт верх. Чего ожидает – неясно. Что отец вот сейчас назовёт какое-то громкое имя и скажет, будто это его псевдоним? Что расскажет, как отказался? Что откроет, как где-то в далёкой стране его книги проходят в школах, но у нас они запрещены?
– А потом? – говорит севшим голосом. Быстро прошёлся по нижней губе кончик её языка, сболтнувшего лишнее.
– Я не отправил, – отвечает отец, и в его голосе осознание собственной правоты, почти гордость: о несозданном либо хорошо, либо никак.
Ну прекрасно. Это такая вот сказка для Киры, поучительная – просто жуть. Кто ж его знает, о чём, захочешь – сама додумай. Может, что не жили-то хорошо, не стоит и начинать. Или что лишь бы не было хуже. Что если держишь синицу в руке, не смей думать о журавлях.
Сказка сказывалась, дело не делалось, и было примерно так: одного героя никто не мог победить – ведь никому он не сдался.
Панику нагоняли книжные магазины, от библиотек пробирала дрожь – вон сколько всего люди понаписали, а ты не можешь, не можешь. Всюду виделись цитаты из ненаписанного, никогда никому не показанного, точно в голову влезли и подглядели: молчишь ты – скажет кто-то иной. Слова не умеют ждать.
А ещё были те, кто умеет получше: интересно смотреть, невозможно никак повторить. Всё сделали до тебя. Сиди уж, не дёргайся.
Не дёргаться было невыносимо.