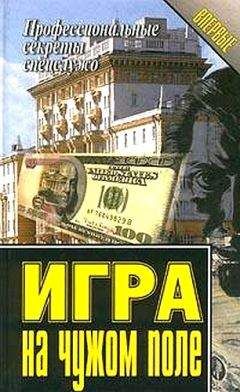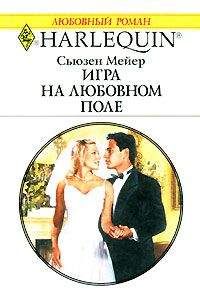Говард Немеров - Игра на своем поле
– Только прошу вас, не раздувайте из этого политическое дело. Я вас немножко знаю, вы ведь не прочь пошуметь насчет честности и принципиальности. Так я хочу, чтобы вы этого не делали. Вы вправе передумать или остаться при прежнем мнении, но дайте слово: то, что я вам расскажу, дальше не пойдет. Кстати, это тоже в ваших интересах, так как сомневаюсь, чтобы вам или мне поверили, если мы открыто выступим с разоблачением.
Солмон поднялся на локте и пристально поглядел на Чарльза.
– Даю слово, – наконец произнес он, – ради вас, Осмэн. Я вижу, вы не успокоитесь, пока не расскажете вашу новость. Держу пари, что я потом об этом пожалею.
– Знать и молчать – прекрасная тренировка воли, – сказал Чарльз. – Знаете, я сам был бы рад воспользоваться сейчас этой мудростью. Итак… Мальчишка получил взятку у каких-то темных дельцов, чтобы завтра не участвовать. Я бы этому не поверил, если бы не имел вещественных доказательств.
Леон Солмон широко ухмыльнулся, лицо его приняло хищное выражение.
– Да кто бы поверил, а? – воскликнул он радостно. – Кто бы поверил?
– Его мучила совесть, возможно, вследствие изучения им теории современной этики. – Чарльз не мог удержаться от этой шпильки. – Так просто отказаться играть было нельзя, и вот он решил провалиться на зачетах и, следовательно, выбыть из игры.
– Сколько же ему дали?
– Пятьсот долларов авансом. А после так называемого состязания обещали еще полторы тысячи.
– За две тысячи монет я продал бы всю историю европейской мысли, от Возрождения до наших дней, – сказал Солмон, – но мне никто взятки не даст. Вечный музыкант на чужих свадьбах! – Он вздохнул. – От такого разоблачения мог бы взлететь на воздух весь этот храм науки, а что?
– Но он не взлетит, – резко остановил его Чарльз. – Вы обещали. Не забывайте, на карту поставлено будущее молодого человека. Тем более что денег он не возьмет – этот вопрос мы, по-видимому, урегулируем еще сегодня. Я должен кое с кем встретиться и вернуть аванс. И если Бленту разрешат участвовать, он чист при любом исходе игры. Теперь вам понятно, почему необходимо допустить его?
– Он к вам пришел и во всем покаялся?
– Да, сразу после того, как я вам звонил.
– Пришел небось весь в слезах?
– Да, – неохотно подтвердил Чарльз. Солмон, казалось, был доволен.
– Ведь ему же выгоднее, чтобы его не допустили? Не играл – и баста!
– Нет, для него это вопрос совести. Он считает, что обязан любым путем искупить свою вину, если это вообще возможно. И я с ним согласен. Иначе ему нельзя.
– М-да, вопрос совести… – повторил Солмон и задумался, потом он рассмеялся. – И нужно все на свете перевернуть только ради того, чтобы Блент участвовал в игре. И кое-кому стало бы очень не сладко, если бы он вдруг заявил, что ему это вовсе не нужно.
– Да, и это надо учитывать.
– Ничего себе – вопрос совести! С такой совестью я мог бы стать королем.
– Бросьте! – сердито прервал его Чарльз. – Первозданной чистоты вам надо, что ли, черт побери? А вы в молодости никогда не совершали ошибок? Ну хорошо, малый оступился, значит надо теперь затоптать его в грязь, этого вы хотите, да?
– И он каялся, и плакал, и обещал исправиться и вернуть все злато, добытое нечестным путем?
– По существу, так.
– И вместо того чтобы позвать поли-
цию, вы сказали: «Иди и впредь не греши»?
– Да, если вам угодно.
– Понятно. – Солмон смерил Чарльза пристальным взглядом, от которого тому стало неловко, и сказал, поднимаясь с кушетки: – Дайте сюда ваш стакан!
Они снова направились в кухню. По дороге Чарльз заметил миссис Солмон, притаившуюся в темном углу передней. Она ничего не сказала, только посмотрела им вслед. «Словно дикая кошка, – раздраженно подумал Чарльз. – Пошла бы лучше отдохнула». А Солмон даже не взглянул в ее сторону.
– Вас испортило христианство, – сказал он, подойдя к раковине и глядя на Чарльза, – как, вероятно, всех нас, но вас – даже больше, чем меня.
– Возможно, – сказал Чарльз, – но я атеист.
– Я имею в виду не религию, а кое-что поважнее, – пояснил Солмон. – Мы учим тому, что нам приказывают, и постепенно перенимаем эту науку сами. Но нам всегда это будет претить, потому что, по существу, мы учим тому, во что сами не верим.
– Да и они не верят, успокойтесь!
– Ошибаетесь. Они верят в свою силу, а движет ими самодовольство, присущее победителям. Это они создали историю, философию, поэзию, а мы с вами зарабатываем себе на нищенское пропитание тем, что прославляем их, и за то едим их хлеб и пьем их вино. – Солмон протянул Чарльзу стакан.– Берите, пейте свое вино! И да раскроет оно вам все тайны футбола!
– По-вашему, я должен был донести на мальчишку? Если не в полицию, то по крайней мере Нейджелу?
– Таков ваш долг воспитателя юных душ этого колледжа…
– Легко вам рассуждать, ведь это случилось со мной, а не с вами. А вот когда сия дилемма встала передо мной, я понял, что не имею права испортить человеку жизнь.
– Как будто вы знаете, что портит, а что спасает! Вы берете на себя слишком много.
– Допустим, не знаю, но если есть выбор, я – за милосердие. Может быть, я не прав, но таково мое мнение, и я при нем остаюсь.
– Милосердие! Понятно, вы за милосердие! «Придите ко Мне все труждаю-щиеся и обремененные, и Я успокою вас…» И в этом вопросе вы, дружище, слишком много берете на себя.
– А вы считаете, что надо требовать тот самый фунт мяса (Имеется в виду иск Шейлока (Шекспир, «Венецианский купец»), требовавшего фунт мяса из тела его врага Антонио) до скончания века и ничто никому не служит уроком? Кстати, позвольте вам напомнить, что лично мне никто не причинил зла.
– Ха! И потому вы, наверно, сказали: «Кто смеет тронуть малых сих…»
– Глупости! Просто я считал, что я не вправе судить этого юношу. Пусть «Не судите» берет свои корни в христианстве, но для меня это не больше, чем норма поведения цивилизованного человека.
– Если так, – иронически ухмыльнулся Солмон, – почему же вы не доверили его богобоязненным христианам в надежде на их великодушие?
Чарльз не ответил.
– Тогда я скажу почему! Потому что церковь передала бы его гражданским властям, действующим по ее указке, и парня сожгли бы на костре во славу американского спорта. И вам не только приходится говорить словами Христа, потому что они тоже говорят, но и поступать, как Христос, – за них, потому что они этого не делают.
Чарльз снова промолчал.
– И еще я вам вот что скажу: они бы тоже его простили и показали бы свое милосердие, но только прежде укатали бы в каталажку и вырезали фунт мяса у него из задницы.
На этот раз молчание длилось долго.
– Послушайте, – сказал, наконец, Чарльз, – неужели вас никогда не прощали, неужели вам никогда не случалось совершить ничего выходящего за привычные рамки, ничего такого, за что вам потом было стыдно? Даже в молодости? Не забудьте, что двадцать один год – это не так уж много и люди в этом возрасте еще не очень хорошо знают жизнь, хотя официально считаются совершеннолетними…
– Сам натворил, сам и расплачивайся! – отмахнулся Солмон. – В той среде, где я рос, каждый парень это знал, как только у него вырастали волосы под мышками.
Чарльз с минуту колебался, чувствуя, что поступает некрасиво, но все же вымолвил:
– А как насчет коммунистической партии? Мне не .доставляет особого удовольствия вам это напоминать, но мы беседуем с глазу на глаз, и я обещаю, что это тоже останется между нами; я просто хочу, чтоб вы меня хорошенько поняли.
– Если вы это знаете, то должны знать и как мне это простили! – сказал Солмон. – Самое-то любопытное, что я и не состоял в коммунистической партии, но меня в этом обвиняют по сей день. Ха! Понимаете, я сам думал, что состою. В колледже, где я учился, меня считали тайным агентом, важным партийным деятелем. Если бы вспыхнула революция, я поставил бы всех к стенке – в первую очередь предателей и таких, как ваш брат интеллигент! Кстати, а вы сами-то не были в партии? В дни молодости, наверное, тоже были заядлым радикалом? Моя первая возлюбленная участвовала, как и я, в организации митинга солидарности с бойцами батальона Линкольна в Испании.
– Я как-то не очень интересовался политикой, – сказал Чарльз.
– Но получив диплом, я все-таки решил, что политика – это вроде кружка духовного пения и пора бросать это дело. В то время уже всерьез пахло войной, а пацифизм – хорошая штука в мирное время. Когда меня должны были призвать в армию, я пошел по тому адресу, где, как я думал, помещался комитет партии: хотел сдать свой билет, понимаете?
– И что же?
– И ничего. Я прочитал внимательно то, что было написано на оборотной стороне моего членского билета: крупными буквами – «Коммунистическая партия США» и мелкими – остальное, и выяснил, что принадлежу к Лиге индивидуальной свободы, якобы преследовавшей те же цели, что и Коммунистическая партия США. В помещении было пусто, и некому даже было отдать заявление. Так у меня до сих пор и лежит этот билет. Чарльз задумался,