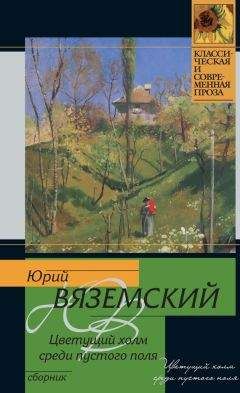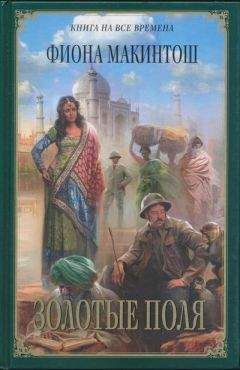Юрий Герт - Ночь предопределений
Только теперь Феликс направился к раздосадованному ожиданием Карцеву.
— Куда вы подевались?— буркнул Карцев, сколупывая с горлышка бутылки сургуч.— Пропали, как сквозь землю провалились... Я заподозрил, что вы отправились на поиски этой вашей Беловодии...
— В некотором смысле вы правы,— улыбнулся Феликс, усаживаясь за столик.
— Кстати, знакомьтесь,— Карцев со свойской непринужденностью кивнул на соседний столик,— Или вы уже знакомы?
— Отчасти,— сказал Феликс, приподнимаясь навстречу Гронскому.— Я видел афиши.
Гронский, несмотря на жару, был в пиджаке, из рукавов которого ровно на палец выглядывал манжет белой рубашки; здороваясь, он нагнул голову, коснувшись широким, до синевы выбритым подбородком плетеного галстука, повязанного крупным узлом. Ладонь у него была пухлая и мягкая, рука Феликса утонула и как бы растаяла в ней.
— Моя ассистентка,— представил Гронский свою спутницу без особого энтузиазма, скорее даже недовольным тоном.
— Рита,— назвалась девушка, кокетливой улыбкой сглаживая этот хмурый тон. Ее карие глаза ярко вспыхнули и погасли, прикрытые густыми ресницами. Достаточно густыми и длинными, отметил Феликс, чтобы обойтись без этих комочков туши. И без грубых, неумелых теней на веках. И без этих позолоченных обручей, продетых в уши...
— Спир-ридонов!— с готовностью привскочив, пророкотал тощий.— Антрепренер!.. Артист, администратор, антрепренер — все в одном лице!..
— Вот и прекрасно,— Карцев проткнул пробку внутрь и разлил портвейн по стаканам.
— Вот и прекрасно,— повторил он, перехватив жаждущий взгляд Спиридонова, а заодно и стакан, возникший в спиридоновской руке.
— Лапочка,— не глядя на Спиридонова, сказала Рита строгим голосом.— Лапочка, Артур Михайлович...
— Хорошо,— покорился Спиридонов.— Чего хочет женщина...— И облизнул кончиком языка сухие губы.— Будем пить шубат. Отличный, кстати, напиток, рекомендую...
— Воистину,— Феликс чокнулся с Карцевым.
В зале, кроме них, сидело еще два-три человека, которых он не знал, и — через два столика — повернувшись к ним сутуловатой спиной, парень лет двадцати четырех-двадцати пяти, отчего-то показавшийся знакомым. Перед ним стояло несколько тарелок, покончив с одной, он тут же пододвигал к себе другую и продолжал есть — с таким неутолимым молодым аппетитом, что лопатки на его спине шевелились, натягивая рубашку. Кто бы это мог быть?— подумал Феликс.
Впрочем, подумал без особого интереса. Кто интересовал Феликса сейчас, так это Гронский. Мастер психологических опытов. Странствующий маг и чародей. Забравшийся в пустыню Калиостро... Допивая вино, Феликс, посмеиваясь в душе, наблюдал поверх края граненого стакана, с каким достоинством восседает маэстро за своим столом, с какой невозмутимостью режет распластанную по надтреснутой тарелке яичницу, как величественно, с небрежным изяществом английского лорда его пухлые руки, сложив пальцы горсткой и чуть приотставив мизинец в сторону, держат нож и алюминиевую вилку с обломленным зубцом, выковыривая и складывая кучкой кружки прозрачной от жира колбасы,— казалось, тут же, на глазах, вилка начинала излучать тусклое сияние столового серебра, на котором, в прихотливых изгибах покрывающего ручку орнамента, смутно прорисовывается родовой вензель... Хотя, подумал Феликс, по всей видимости это препорядочная халтура, маэстро Гронский и его «опыты», иначе какого дьявола ему забираться в такую глушь... Но тем забавней!
Тем забавней,— повторил он, и пока Карцев и Спиридонов обсуждали благотворное воздействие шубата, кумыса и более крепких напитков на человеческий организм в сорокапяти-градусную жару, Феликс представил себе толчею послевоенной барахолки, безногих, багроволиких инвалидов, среди латаной ветоши и трофейного тряпья зазывающих, на счастье, сыграть «в веревочку», и роскошные книжные развалы, где было все — от громадных дешевых однотомников, которыми тогда издавали классику, до подшивок «Нивы» и немецких открыток с милующимися голубочками... Гам-то и отыскалась однажды брошюра, с ятями и завораживающими картинками: «Как стать гипнотизером?» Она содержала тридцать уроков-упражнений, с полнейшей гарантией успеха. От книжицы, от ее просвечивающих, словно промасленных страниц веяло забитым рухлядью чердаком, тайной и всемогуществом.
Вдвоем с приятелем-одноклассником они добрались до третьего или четвертого урока, на этом их пыл иссяк. Им не хватило упорства и последовательности, на которых настаивал педантичный автор. Но в щуплых мальчишеских телах, содрогавшихся от несбыточных фантазий, остался трепет и восторг — перед одаренными волшебной силой людьми, изображенными на картинках: единственным словом, жестом или взглядом они погружали в глубокий сон, или внушали, что угодно, целой толпе, или превращали человека в бесчувственное бревно, которое переезжал экипаж с кучером и четырьмя седоками!..
Путь к всемогуществу... В конечном счете, Наполеон, Бальзак или странствующий гипнотизер, подумал Феликс, так ли велика разница? Важен импульс.
Они говорили о том, что предпочтительней: холодная водка в Кара-Кумах, где раньше Карцев строил на маленькой станции вокзал по своему проекту, или подогретая рисовая саке, которую Спиридонову довелось отведать в Маньчжурии в сорок пятом году,— говорили о том, что первым приходит в голову незнакомым, оказавшимся рядом людям,— Карцев, отвалившийся на спинку стула, с вытянутыми под столиком ногами в растоптанных сандалиях, и Спиридонов, не замечающий - быть может и замечающий — скрытый темными стеклами добродушно-иронический взгляд Карцева и с тоскливым смятением посматривающий на бутылку... Но тут Гронский, сложив поверх недоеденной яичницы вилку и нож, перебил их, обратившись к Феликсу:
— Вы часто здесь бываете?
Он смотрел на него прямо и требовательно.
— Не слишком, но...
— Не слишком, но бываете,— не дослушал его Гронский,— И что же, здесь всегда так превосходно кормят?— Лицо маэстро было бесстрастно, только в сочном баритоне с легкой хрипотцой проступала стариковская брюзгливость.
— Не всегда,— улыбнулся Феликс, внезапно поймав себя на том, что под хмурым взглядом гипнотизера начинает испытывать нечто вроде смутной вины.— Но сегодня — выдающийся день...
— Я это чувствую,— оборвал его Гронский, - Боюсь, что это вскоре также почувствуют мои печень и желудок.
— ... И по такому поводу,— продолжал Феликс, несколько задетый манерой Гронского вести разговор,— по такому поводу нас даже балуют блинами...
— Это не блины,— Гронский скосился на стоящую перед ним нетронутой порцию блинов, скатанных двумя рыхлыми валиками,— это самоубийство.
— А кроме того — деликатес для здешних мест; салат из свежих огурцов...
— Порядком перезрелых,— буркнул Гронский.— Не находите?
— И это помимо шубата, который превосходно утоляет жажду и обладает целебными свойствами, их тоже нельзя недооценивать...
— Понимаю,— Гронский устремил померкший взгляд на едва пригубленную кружку.— Но чтобы по достоинству оценить этот превосходный напиток, необходимо, по всей видимости, тут родиться... И вы утверждаете, что это ко всему еще и выдающийся день?
— Не иначе,— сказал Феликс.— Вероятно, все это — в честь вашего приезда. Ничем другим этого не объяснишь.
— Вполне правдоподобное объяснение,— поддержал Карцев и толкнул — нарочно или нечаянно — Феликса ногой.
Феликс заметил сердитый взгляд, брошенный на них обоих Ритой исподлобья, и то, как она перестала на миг жевать, поднеся к губам хлебную корочку.
— Зачем вы привезли меня сюда, товарищ Спиридонов?— произнес Гронский все с тем же бесстрастным выражением на холеном лице. Его крупный нос и щеки с отвислыми львиными мешочками покрывала сетка розовых прожилок.
— Зачем?..— вскинулся Спиридонов и затеребил черную, порядком засаленную бабочку под выпирающим на тощей шее кадыком.— Как это — зачем?.. Когда наша филармония заключала с вами договор...
— Я вам скажу, товарищ Спиридонов, зачем вы это сделали,— проговорил Гронский, глядя почему-то не на Спиридонова, а на Феликса.— Вы привезли меня сюда, чтобы похоронить.
Спиридонов задергался и вновь схватился за бабочку, слов но она его душила. Рита надкусила корочку, показав при этом очень белые, блеснувшие в короткой улыбке зубы. Карцев потянулся к бутылке и разлил по стаканам остатки портвейна.
— Вы верите в ясновидение?— спросил Феликс.
— Я не верю в ясновидение,— сказал Гронский.— Но мне известно несколько случаев...— Феликсу показалось, он вздохнул,— я хочу сказать, и это не имеет никакого отношения к ясновидению, что мне доводилось выступать в Норильске и Махачкале, в Великом Устюге и Конотопе, вряд ли вы отыщете город, где бы я не был, но я нигде не видел, чтобы по главной площади средь бела дня разгуливали коровы и ели газеты. Я не знаю, товарищ Спиридонов, придутся ли им по вкусу наши афиши, но учтите, я не умею работать с пустым залом. Я не лектор по атеистической пропаганде, у меня другой жанр. И потом,— закончил он сурово,— я хочу есть. Я еще не научился питаться газетами. Тут существует какой-нибудь ресторан?