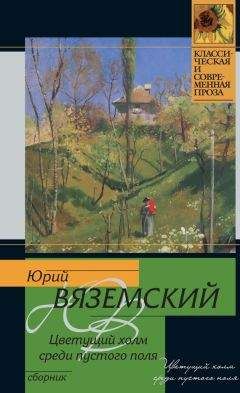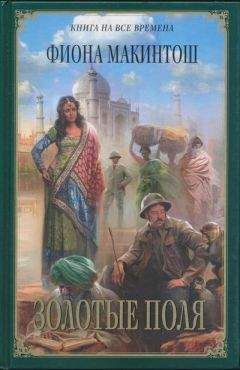Юрий Герт - Ночь предопределений
Да, подумал Феликс, все-таки главное было — время... А молодость? Он был уже не молод и почти весь седой это в тридцать-то пять лет, а все летел куда-то, в черной бурке, все размахивал шашкой, и мы за ним...
Он шел и думал о том, чем тогда они жили: пуск первой домны, размещение прибывающих эшелонами строителей, нехватка бетона, нехватка столовых, нехватка общежитий, подготовка к Московскому фестивалю, борьба с рвачами и стилягами, «выше строительные темпы!», бригады коммунистического труда, отряды ЧОНа, перевоспитание выселенных из Москвы тунеядцев, борьба за здоровую молодую семью, борьба с бесхозяйственностью, разгильдяйством, бюрократизмом и очковтирательством, борьба с пережитками культа личности... И все это казалось тогда важнее, чем литература, чем его роман...
Ну, нет,— подумал он,— пожалуй все-таки нет. Но разница ощущалась только в калибре... В калибре и в заряде, в размерах заряда. Цель была одна. И в этом все дело — что цель для всех была одна. И все это — бюрократизм, очковтирательство, прокисший борщ в столовке и простои на растворных узлах — странным образом соединялось в том, о чем он писал, хотя писал он как бы и вовсе не о том... У них с Наташей в маленькой их комнатке собиралось в то время много народа, и о чем бы ни начинался разговор, все кончалось жаркими спорами. Но почему-то особенно яростные споры возникали, когда они оставались вдвоем.
Деталь эпохи, улыбнулся он. Теперь о них, об этих спорах, смешно и вспомнить, а если попробовать описать их, то лишь в юмористическом ключе. Иначе все выйдет недостоверно, во всем будет чувствоваться натяжка. Еще бы! Тут тебе Карцев, и нечего ему возразить, а главное, что и возражать неохота... А там — после целого дня работы, ожидания, очередей за молоком и сосисками... Когда все пеленки уже постираны, а сухие отглажены, и завтрашний обед сготовлен, пол протерт, Наташа-маленькая уже спит, почмокав зажатой в пухлых губенках соской-пустышкой, у себя в кроватке, в уголке, куда не достигает свет настольной лампы, отгороженной двумя стопками книг... И полная семейная идиллия — Филемон, сидя напротив Бавкиды, читает «Новый мир» с последней повестью Тендрякова или Эренбургом, а Бавкида, с шершавыми от стиральных порошков руками, с поблекшим, съеденным маникюром на пальцах, листает ученические сочинения или составляет план завтрашнего урока по декабристской лирике Пушкина... И все так мирно, так мило, и оба встречаются взглядами, умиленно-встревоженным при легком шорохе, донесшемся из угла, где кроватка... И вот тут-то, среди всей этой безмятежности, внезапно, из-за какого-нибудь абзаца... Из-за строчки... Но строчки-то, между прочим, о Блюхере или Тухачевском, или Пастернаке, или... мало ли о чем и о ком...
Из-за строчки, из-за единственного слова — гром и молвня, точнее - не гром, а только молния, ослепительные вспышки молний в глазах, и надломленный, захлебывающийся шепот, и — «тише! ребенок спит!» и насмерть, навсегда обиженные, сведенные на переносье брови... Однажды они особенно жестоко поссорились, хотя теперь уже и не вспомнить, из-за чего именно. Зато как она убежала из дома, как он рыскал по всему городу, пока нашел ее, наконец, на вокзале, куда она пришла с твердым намерением все порвать и уехать, это он помнил хорошо. Это случилось еще до рождения Наташи-маленькой, потом споры стали менее яростными, но все продолжались — не из-за домашнего быта, не из-за тряпок или денег, тут они почти не ссорились, а все по тем же причинам — Пикассо, абстракционисты... И оба, случалось, засыпали, отодвинувшись на края — каждый на свои край диван-кровати, непримиримые, оскорбленные в самом заветном. Правда, потом, среди ночи, ему становилось до спазм в груди жаль ее, с ее шершавыми руками, с облупившимся маникюром, с ее тетрадками, исчерканными красными чернилами, ее упругим, упрямым почерком, с наклоном влево... Он видел ее ученицей, десятиклассницей, с преданностью и восторгом внимающей ему, молодому учителю, и ее письма, суховато-застенчивые, исписанные все тем же упругим, упрямым почерком, приходившие к нему в часть почти каждый день, и золотисто-зеленую, плоскую, вложенную в конверт веточку мимозы, которая открыла ему все... И он осторожно, неуверенно касался в темноте ее каменно-твердого плеча, и бормотал что-то виноватое, или ничего не говорил, не бормотал потому что их тела были мудрее всего, о чем они могли бы сказать друг другу, — мудрее, нежнее и преданней, и умели радоваться, и задыхаться от счастья, и растворяться друг в друге, и вот уже они оба тихонько смеялись в ответ на предательское поскрипывание их семейного ложа, купленного по случаю в комиссионке, и говорили сквозь смех: «О господи, когда же у нас будет нормальная кровать?.. Конечно же, успеется... Но тогда нам будет уже все равно... Нет, нам никогда не будет все равно...» И так — до серебристого ручейка будильника в черноте, до латунной полоски за окном, над горизонтом...
...А хорошо бы,— подумал он вдруг,— а хорошо бы на фоне этой светлой предзаревой полосы, все в той же графическом манере, изобразить сторожевую вышку, «скворешню», и легкими, очень легкими штрихами, почти пунктиром растворяющимся в воздухе — обрывки свисающей со столба колючей проволоки... Он только слышал прежде о том, что было раньше здесь на месте строящегося в степи металлургического комбината, только слышал — пока однажды не наткнулся сам на одинокую, как бы забытую среди котлованов и свежеотрытых траншей, среди груд вычерпанной экскаваторными ковшами земли такую вот вышку, покосившуюся, как бы подрубленную у основания. И не понял, не сообразил как-то сразу, что это за неуклюжее строение возвышается перед ним, что это за домик, за избушка такая на курьих ножках, то есть на четырех толстых, скрепленных изнутри крестовиной столбах...
Тогда, в первые минуты, он этого не понял, не почувствовал, и только подумал, что это какое-то временное, хотя и довольно странное, довольно нелепое сооружение, возведенное для каких-то строительных целей, мало ли — каких, тем более, что на верхотуре, под конусовидным грибочком, сидел Витька Осокин, до пояса голый, в соломенной шляпе сомбреро, и пил кефир. Был обеденный перерыв, и Витька Осокин улыбнулся ему всем своим круглым, рязанским, обугленным, как у дьявола, лицом, на котором сверкали одни зубы, и помахал бутылкой с остатками кефира, приветствуя и приглашая подняться к себе. Но Феликсу нужен был тогда не Осокин и не его экскаватор, торчавший поблизости, в котловане, а еще кто-то, и он только спросил у него, где этот «кто-то», и отправился на розыски. Уже потом, уже рыская по стройплощадке и толкуя о кубиках вынутого грунта и о графике подачи самосвалов, о чем-то таком, он внезапно подумал о вышке и догадался, что это за вышка. Он решил, что на обратном пути заскочит туда хоть на минуту, поднимется по лесенке, чтобы постоять там, наверху, и потрогать перильца, и вообразить,, попробовать вообразить себе, как все это было, не по рассказам, а въяве... Но не заскочил, не успел. А потом и вышку снесли, чтобы выстроить Коксохим... Или агломерационную фабрику?.. Нет, Коксохим...
Он тогда так и не поднялся на нее, не потрогал, не погладил перилец, не прислушался к скрипу ступенек, так и осталась для него навсегда эта вышка, этот «скворешник» — с Витькой Осокиным, который улыбается ему своей веселой рязанской рожей и размахивает бутылкой из-под кефира... Но вспоминалась ему тогда она часто, то есть не она, собственно, не доски, не бревна, само собой, а, например, жаркая, влажная ночь, и силуэты отца и матери на фоне распахнутого окна, и приближающееся к их дому, необычайно громкое в спящем ночном дворе, урчанье машины. Оно приближалось, медленно нарастая, а те двое — мать в длинной, чуть на до полу ночной сорочке, и отец в сетке, смутно белевшей, и трусах — стояли у окна, словно закоченев, прижавшись плечами друг к другу, и он смотрел на них из своей постельки, тоже окоченев от смутного, непонятного страха... Хотя справка о гибели отца на фронте, и вполне достоверная, хранилась у Феликса до сих пор, ему казалась возможной другая вариация его судьбы,— в особенности когда он думал об этой вышке, последней из когда-то стоявших здесь...
Он на ходу нагнулся и сорвал стебелек темно-зеленого итсегека, покрытого как бы налетом изморози, пожевал и сплюнул, травка была горькой и солоноватой на вкус.
Это где-то там, в Москве, у памятника Маяковского, читал стихи Евтушенко, и во Дворце спорта, на стадионах собирались тысячи распаленных юнцов, и не ради футбольного матча или борьбы дзю-до, а ради тех же стихов, ради того, чтобы увидеть Вознесенского, Рождественского, Булата Окуджаву, и мало ли кого еще, и послушать, как это у них получается — лихо, свободно, смело, закрученно и распрямленно,— послушать, подставить лоб и грудь, расстегнув клетчатую ковбойку, свежему, упругому ветру, дующему с эстрады, выдувающему застоялый, гнилой воздух из молодых голов и переполненных залов... А у нас была развороченная степь, и собачий холод или зной, и котлованы, и первые корпуса, и палаточный городок, куда по утрам привозили в цистернах ржавую воду, и борьба с текучкой, и фельетоны про грязные простыни в общежитиях, и вместо Булата Окуджавы — рвущиеся, подклеенные, шепелявые магнитофонные ленты с его песенками, которые слушали, затая дыхание, собравшись в кружок, и вместо Евтушенко — Санька Воловик, читающий своим мальчишеским, завывающим одесским тенорочком трибунные стихи на редакционных средах... И Витька Осокин, рязанская душа, с его тягучим говорком, его стихами — про первую домну в степи, и родные окские рассветы, и про красные тюльпаны на комиссарских могилах... И взрывающийся, как дымовой пакет, Тимур Зуев — нетерпеливый, бешеный в спорах, но с покорным отчаянием слушающий, как громят его рассказы... И огромный, ленивый, добродушный Кирилл Кошелев, не пишущий ни стихов, ни рассказов, но всегда готовый разрядить атмосферу небольшой лекцией — о Марселе Прусте или Фиделе Кастро...