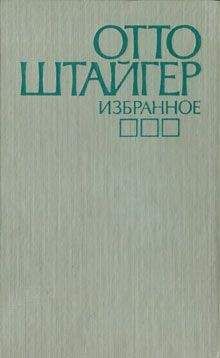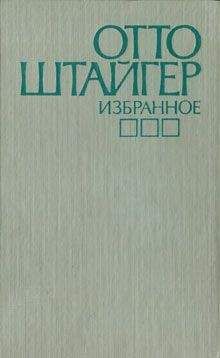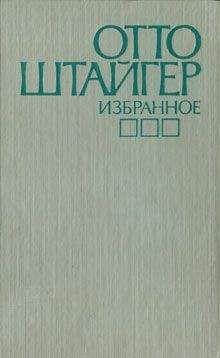Ханс Плешински - Портрет Невидимого
Ты нигде не будешь чувствовать себя дома, пока не почувствуешь, что дом твой — в тебе. Можно ли считать достижением ту свободную от обязательств жизнь, которую мы, как нам мнится, сейчас ведем? Какова ее цена, как мы собираемся эту цену оплачивать — какой-то жизнью, — если как раз тому человеку, которого выбрал для себя, ты больше не смеешь сказать: «Я тебя люблю, я хотел бы быть уверенным в том, что теперь, когда я тебя нашел, с тобой и со мной ничего плохого не случится»?
Герой романа и Франциска хотят по-настоящему сблизиться. Но осуществимо ли это?
Мужчину принуждают к актерской игре, подумал я снова, почти со злостью, — он жестикулирует, а женщина с интересом наблюдает. По сути, она играет лучше, чем он. Она сознательно воздействует на мужчину, а он, словно бык в корриде, реагирует на такое воздействие: посредством жестов и слов. Он разыгрывает перед ней чувства, которые она же в нем пробудила; он, может, и хочет ее обольстить, произвести на нее впечатление, перетянуть на свою сторону, силой себе подчинить, да только она остается в реке, даже если недолгое время, пока он говорил, отдыхала, как русалка, на берегу, позволяя ему верить, будто она его поняла. Она только слушала, он же думал, что она с ним разговаривает.
Ее подлинной речью — я чувствовал это, но всегда неверно интерпретировал — был ее способ слушанья.
Главное в романе — не счастливый конец, но измерение глубин души, поиски волшебного слова, помогающего понять друг друга.
Мне пришло в голову, что сейчас мы снова сидим бок о бок, словно зрители в театре. И поскольку оба мы, без определенной цели, смотрели в одном направлении, я, вместо того чтобы слушать, воображал, будто мы говорим вместе, произнося в унисон одни и те же слова. И внезапно я увидел, как в раме черного окна, отражавшего ее спину, Франциска превратилась в живописное полотно. Может, таким образом я отметил прощанье с ней, о чем сама она не догадывалась. Чтобы мне не пришлось нести ее через комнату, она стала нарисованным образом на темном фоне городской панорамы.
Хотя в романах Фолькер умел выстраивать фразы, точные и ранящие, словно лезвия бритвы, позже, предлагая результаты своих многолетних трудов издательствам, он не находил нужных слов: Вместе с этим письмом Вы получите рукопись, которую я прошу прочесть. Заранее сердечно благодарю… Ответы он получал соответствующие: Просим Вас набраться терпения. Мы передадим Ваш текст дальше… Как ни горько, каждый раз повторялась история из его детства: когда-то в Кайзерверте, в детском доме, он долго репетировал роль из сказочной пьесы, а потом, в день премьеры, на него надели маску, и никто не расслышал произносимых им слов.
Катастрофы преследовали его по пятам, словно братья-близнецы. Иногда я спрашивал:
— Почему ты смеешься?
— Потому что не могу не смеяться.
— Как же ты будешь жить дальше?
— Как-нибудь проживу.
Я, беспомощный, ранил его гордость, когда советовал: «Найди себе какую-нибудь работу… временную… чтобы иметь постоянный доход… Устройся в музей. Сторожем… Голова у тебя будет свободна».
«Никогда». Ответ звучал резко. Он не желал, чтобы с ним повторилась история краха его отца. Не накликал ли он на себя, именно из-за такого опасения, нечто подобное? Он хотел оставаться независимым, и разубедить его я не мог. Но случилось удивительное: все бедствия только укрепляли в нем человеческое достоинство. Он стал несгибаемым сторонником своеволия.
Дальше он жил, непрерывно преодолевая препятствия.
Я не могу объяснить себе одно его необычное свойство…
— Ага.
— Не вмешивайся сейчас. Наслаждайся своими полями блаженных.
…а именно: почему я не возбуждал в нем никакой зависти. Я писал и печатался, получал литературные премии. Он же на протяжении двадцати лет прочитывал и комментировал каждую мою строчку. Он ездил на мои чтения, если они происходили не очень далеко, и садился в последнем ряду. В очередной книжной лавке или школе пальцами делал знаки, давая понять, что я читаю слишком быстро или слишком медленно. Если слушателей приходило мало, получался как бы вечер для нас двоих. Позже, когда состояние его ухудшилось и он все реже появлялся на людях, он незаметно ухолил после последних произнесенных мной фраз. Как же могло быть, что я ни на секунду не почувствовал в нем зависть? Может, любовь творит подобные чудеса. Или Фолькер воспринимал меня отчасти как свое создание?
Он умел перевоплотиться в советчика. Не только ради меня. Я много раз наблюдал этот процесс на вернисажах, в мюнхенском Доме искусств, на выставках в известных галереях.
Фолькер, теперь почти пятидесятилетний, рассматривал картины, коллажи, скульптуры и вступал в разговоры с молодыми художниками.
— Когда это было нарисовано? — спрашивал он.
— Прошлым летом. Я заглянул в стиральную машину. Сквозь стеклянную дверцу. Увидел вихревое вращение белья — и у меня в голове родились образы движения.
— Продолжайте работу над такой — вихревой — структурой ваших рисунков. В этом есть новизна.
Подобные диалоги часто приводили к тому, что Фолькер наведывался в ателье заинтересовавшего его художника и производил смотр имеющимся там работам.
— Вам бы надо изменить порядок ваших фотографий.
— Почему?
— Сейчас покажу. Светлые лучше вынести вперед, темные — поместить сзади. Тогда получится определенная драматургия света.
И он на глазах у художника, воодушевленного таким интересом к его работе, заново сортировал серию портретов, представленных в виде диапозитивов.
— У меня нет знакомств в издательствах и нет денег, чтобы издать каталог.
— Дайте-ка мне парочку ваших картин.
В конце концов Фолькер, продолжая писать романы, начал оказывать своеобразное влияние и в сфере изобразительного искусства. Еще неизвестные скульпторы и художницы приносили ему наброски, незаконченные скульптуры, заявки на стипендию (как правило, очень неловко сформулированные) — и вместе с ним детально прорабатывали свои идеи. После чего он вступал в контакт с кураторами выставок, составлял предисловия к каталогам. Нередко подобные совместные начинания увенчивались успехом.
Но мне поведение молодых художников не нравилось, и я на них злился. Человека, который их открыл, помог им впервые что-то продать, они потом приглашали на пиццу. А Фолькер стеснялся сказать: «Давайте заключим договор. Если музей в Мёнхенгладбахе приобретет вашу картину, вы мне выплатите комиссионные».
— Они все тобой пользуются.
— Что ж, когда-нибудь это окупится.
«Художественное агентство SENSO» — так называлось предприятие, основанное Фолькером и одним его другом (старшим по возрасту). В бурном море богемной жизни забрезжил свет надежного маяка. Совладельцы нового предприятия арендовали бюро и занялись крупными проектами, позволяющими соединить интересную для них деятельность с доходом. Они, например, отправили в Берлин современные сардинские скульптуры; а на открытии выставки, в присутствии культурных референтов и фольклорных групп из Сардинии, угощали посетителей вином с этого острова и устроили на немецкой траве настоящий средиземноморский тинг. Приветственное слово произносил итальянский президент — по телефону, ему специально звонили в Рим, во дворец Квиринал. Фолькер и его компаньон до этого совершили путешествие на Сардинию, где обхаживали лучшего скульптора острова и пробовали знаменитый, но пользующийся дурной славой сардинский сыр. (Когда сыр этот достигает состояния идеальной зрелости, его едят вместе с червячками.)
Два свободных арт-менеджера впервые украсили центр Мюнхена серией впечатляющих стальных скульптур, которые очень нравились прохожим и получили одобрительные отзывы в прессе. Но потребовалось год нести переписку, прежде чем разные ведомства городской администрации, мешающие друг другу, разрешили временно разместить эти скульптуры на пешеходных островках.
— Если бы мы жили в Америке! Там люди буквально жаждут новых культурных событий, только того и ждут, чтобы им предложили необычную точку зрения.
— Нам и здесь удается кое-что сдвинуть с места.
Образцовым в этом смысле стал проект, осуществленный во время фашинга.[182] Фолькер и Ингвальд Клар — совладелец агентства SENSO, типичный южный немец с барочной статью и соответствующей щедростью («Пошли, мы приглашаем всех в «Меранер-штубен»!») — выманили из Венеции и уговорили пересечь Альпы группу «Старинные маски». Члены этой группы, прибегнув к услугам адвоката, объявили войну тому выхолощенному карнавалу, что ежегодно устраивается в их городе для привлечения туристов, — с двумя всего разновидностями плачущих масок и хороводами на площади Святого Марка. Группа же хотела оживить подлинный архаичный карнавал Царицы Адриатики — с дьявольскими личинами, предводителями духов, обнаженными ведьмами, скачущими на гигантских половниках, гондолами, полными ночных огней, трещотками и колокольчиками. Художественное агентство, состоящее из двух человек, — затратив, опять-таки, массу времени и денежных средств — заполучило старо-венецианцев в Мюнхен. В Немецком театре на сцене разыгрался настоящий ведьмовской шабаш, но он был лишь прелюдией к оргии в Серебряном зале, куда зрителей заманивали призывные звуки рожков и адских труб. Венецианцы использовали все регистры, чтобы пробить брешь в сегодняшней повседневности: сама богиня Венеция — обнаженная, на роскошной колеснице — предавалась любви с морскими змеями из лагуны. Чтобы поддержать опьяняющий спектакль, в нем участвовали, когда что-то не ладилось, мы все — друзья Фолькера, Клара (грациозная супруга Ингвальда), визажисты из «Вог» и просто представители богемы. Ярко накрашенные, с огромными искусственными грудями или фаллосами такой длины, что они цеплялись за колонны фойе (а в самых невинных случаях — в двухцветных колготках и больше без ничего), мы бушевали под предводительством итальянцев всю ночь, до зари. Но что касается самого Фолькера, то его попытки веселиться изобретательно и бездумно закончились полным провалом. Он — в своих круглых очках, в мушкетерской шляпе с перьями и с перевязью поверх куртки — всю ночь неподвижно простоял где-то в дальнем конце бального зала и лишь иногда притоптывал ногой.