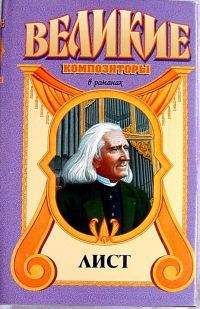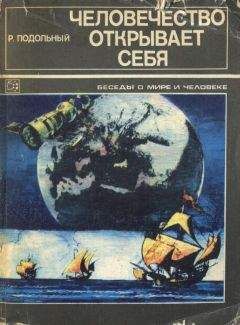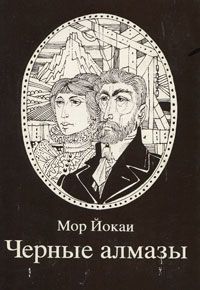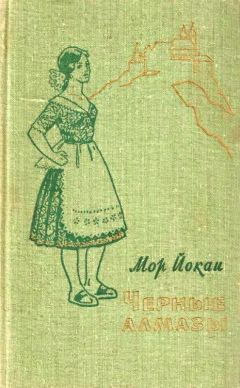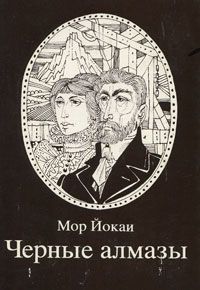Дёрдь Конрад - Соучастник
Сидит дед во главе стола, путешествуя по трем тысячелетиям истории, говорит о Господе, который есть огнь всепожирающий и разящий меч его избранного народа. Господь сдержит свои обещания, если ему так будет угодно, да будет Он славен во веки веков; в каждом поколении Он посылает на нас полчища ненавистников, чтобы они пытались нас истребить. И в последний момент спасает нас из их лап, и воспитывает нас в великую нацию, чтобы могучи были мы на земле и возбуждали зависть всеобщую. Народ раздувается от тщеславия и мнит себя ангелом мщения. Господь обращается с нами, как с женщиной, сказал дед и посмотрел на бабушку: «Дает нам плодоносящее большое тело, чтобы круглились груди наши, мы же наги и навлекаем ненависть на себя. Преследователи наши суть тоже Его орудия, их дело — убивать, мы же взываем к Всевышнему. Народ наш ныне — ни честен, ни смел. И обрушит Господь гнев свой на нас», — сказал дедушка и опустил взгляд на тарелку.
Потом он говорил про раввина Акибу, который еще младенцем читал знаки, начертанные рукой человеческой, и рисунок прожилок на древесном листе, и чертеж сети паучьей. Внятно было ему жужжание пчел, и разговаривал он с белым барсом, и ночью шептался с одиноко скитающейся змеей. Он знал почти все, и суть закона обозначил он в любви к ближнему. Однажды Акибу встретил Бар Кохба, лев-воин, и сказал: «Человек этот — сын звезд», и попросил Акибу сражаться с ним вместе. Плечом к плечу бились они за город, и затем наступило возмездие. Камнем выбивали нам зубы, всем остригли волосы наголо, бороды срезали до корней. Погнал нас Господь на бойню. Женщин обесчестили у нас на глазах, потом забросали их камнями, сыновьям нашим растоптали головы, дочерям пронзали копьями животы. Кровью обагренные, бродили мы, словно слепцы, и вопили, падая в собственную блевотину, и души наши корчились в отчаянии. Отцы отнимали хлеб у детей своих, матери варили в пищу младенцев. Пророкам Господь больше не посылал видений. Он укрылся плотным облаком, чтобы не долетали к нему наши молитвы. Погиб Бар Кохба; схватили и раввина Акибу. Когда вели его на костер, смочил он плащ свой — и так вошел в огонь. Спросили его: «Почему не сбросишь ты свое тряпье? Ведь ты сократил бы свои мучения». «Я хочу продлить их. Ибо жизнью своей я угождаю Господу», — ответил раввин Акиба. В то время был он уже стариком. В этот вечер, вечер седер, бабушка плакала, огорченная, что дедушка так возмутительно ведет себя перед гостями. Может, напился? — спрашивали мы себя. А отец скрежетал зубами, чтобы сдержаться и промолчать.
Я спросил: «Скажи, дедушка, ты Бога любишь?» Дед ничего не ответил, пустыми глазами глядя в пространство. «Скажи, дедушка, раввин Акиба все это заранее знал?» «Раввин Акиба знал Бога, — произнес дед. — А это — тяжкое бремя. Да, знание его висело на нем страшным грузом. Он просил Господа смилостивиться, находил оправдания для народа, но видел свою судьбу. И поэтому считал себя грешником. И был им. Кто видит будущее, тот его и приближает. На одну минуту каждый просыпается, словно пьяный, который хоть на миг да трезвеет. Раввин Акиба долго был бдителен, он видел и козленка, на которого с неба уже падает сокол, видел и спящую деревню, которую уже окружает ползучий пожар. Он хотел молитвой вырвать народ из рук Бога. Чудо для него было не в том, что все будет так, как он предскажет; он считал бы чудом, если бы все произошло по-другому. В молодости он молился, чтобы правота была на его стороне; состарившись — чтобы оказаться неправым». Я спросил дедушку: а он тоже об этом молится? «Я — не раввин Акиба», — сухо ответил дед и ушел в другую комнату. Мы слышали, как он скулит, словно исхлестанная кнутом собака. Бабушка встала. «Сиди», — сказал мой отец. Он ушел к старику, уложил его в постель; тело у того еще дрожало, он впал в забытье. На следующее утро он покорно ел с ложечки яйцо всмятку и растерянно поглядывал на окно, где еще стоял стакан с вином, который он сам поставил туда для Ильи-пророка; в других случаях он сам же и выпивал его среди ночи, в длинной, до щиколоток, ночной рубахе.
12Меня будят санные бубенцы; на главной улице скрипят полозья, мягко стучат по заснеженной мостовой конские копыта. Снег лежит на карнизе окна мягкой белой подушкой, на которой можно писать пальцем; в комнате еще держится запах вчерашних печеных яблок; я беру в рот шершавые ледяные кристаллы. В овчинной бекеше, в огромном пушистом платке громоздятся на козлах мужик с женой, они приехали на воскресный базар, привезли откормленного поросенка, кукурузу. Вытащив перышко из подушки, я щекочу брату ноздри, вращаюсь, пока не закружится голова, на вертящемся табурете у пианино, потом бесшумно забираюсь в постель к нашей юной няньке. Уткнувшись лицом в ее светлую подмышку, обхватываю рукой ее теплые бедра, рубашка на которых сбилась до пояса; ладонь моя гуляет по выпуклости ее пупка, потом пробирается вниз, до пушистого курчавого сада внизу живота. Ангелике двадцать три, мне — восемь; когда мне будет пятнадцать, я женюсь на ней; ей исполнится тридцать, и она все еще будет красивая. Массивные ляжки ее до того сильны, что я, как ни силюсь, не могу раздвинуть ее колени. Хитрости у меня достаточно, чтобы делать вид, будто действия мои — не более чем невинные детские ласки в полусне. Если мне позволяется лечь рядом с нею, то почему бы не прижаться животом к ее благословенно широким бедрам, не провести выпяченными губами по верхней выпуклости ее грудей, которые сейчас, когда она лежит на спине, слегка растеклись в стороны, но в вырезе ночной рубашки все равно легко достижимы. А если она лежит на правом боку, подогнув коленки, что особенного в том, если я придвинусь к ней сзади, прижимаясь к изгибам и выпуклостям ее тела, к золотисто-коричневому заду. Левая моя ладонь неспешно обследует обширный этот континент, устраивает привал на крутом бедре; но есть еще не открытые мною области, и вот мой дрожащий средний палец находит между ляжками влажный вход в пещеру. Ангелика, ужаснувшись, грубо отбрасывает мою руку, потом, но уже не так решительно, шепчет, чтобы я сейчас же убрался вон из ее постели. Из-под зажмуренных век я вижу, что лицо ее — скорее испуганное, чем сердитое. Я отодвигаюсь обиженно, но убираться у меня и в мыслях нет, я мурлычу, словно она разбудила меня из глубокого сна, и прошу не выгонять меня на холод. Но едва она, утратив бдительность, доверчиво начинает дремать, я опять отправляюсь в свое путешествие и не успокаиваюсь, пока ладонь моя не находит ту волосатую раковину между ее ног; не ахти какая интересная вещь, но что-то, какая-то душевная аномалия гонит меня туда: вот так пехота на фронте маниакально, вновь и вновь штурмует какую-нибудь высотку; я ловчу до тех пор, пока мне не удается прижаться к этому месту лицом. Ангелика сползает пониже, притягивает меня к себе и, перебирая пальцами мои длинные волосы, плаксивым голосом просит, чтобы я больше не ложился к ней в постель, она завтра же уйдет от нас, если я буду вытворять такое. Я мочу слезами светлый пушок у нее на шее; зарывшись лицом ей в живот и тыча кулаком в бедро, я твержу: «Не уйдешь! Не уйдешь!» Братишка, проснувшись, садится в своей постели и, испугавшись, что Ангелика уйдет, прибегает к нам; любовный поединок уступает место ребячьей потасовке. Мы деремся прямо над лежащей Ангеликой, сшибаемся лбами едва ли не до сотрясения мозга; нянька со странным выражением на лице, сжав губы, подбадривает нас, словно ей приятно, что мы бьемся из-за нее; а мы, опираясь на ее живот, кусаем друг другу уши, тот, кто окажется сверху, колотит другого о пол головой. «А ну-ка, убирайтесь оба», — строго говорит наконец Ангелика; тогда брат, упав на нее, сдергивает с ее груди рубашку, я делаю то же с другой стороны. Два осатаневших звереныша, мы мнем, сосем, кусаем ее, потом, в один и тот же момент, вкус этой обильной плоти вызывает у нас пресыщение, и мы, даже не оглянувшись, мчимся в сад играть в снежки. Но чувства продолжают владеть мною; в вечерних сумерках, заполняющих детскую, я кладу голову Ангелике на колени, она сидит, поставив ноги на маленькую скамеечку, и я через ткань юбки ощущаю сладковатый запах ее лона, пальцы ее бродят по моему затылку, длинные мои волосы — маскировка против чего-то, от чего мне хочется плакать. Кожа няньки еще отвечает моей коже, в бдительном нашем сне мы с ней срослись, как супруги, голова ее с белокурой косой, нависшая надо мной, — словно ласковое небесное тело, и когда меня зовут из недр сада домой, я прикладываю руки, лиловые от строительства снеговика, к изразцовой печке, а сам прижимаюсь к ней. Однако тут есть еще и моя племянница, мы уже все рассмотрели друг у друга, придя к выводу, что со спины мы с ней совсем одинаковые, а небольшое различие, что можно обнаружить спереди, — вещь пустяковая и не слишком интересная; и все-таки, спрятавшись за поленницу, мы иной раз так неистово тискали друг друга, что даже садовник обратил внимание на наше сопение; летом я слежу, чтобы стебли малины не укололи ей руку, топчу крапиву перед ее ногами в красных сандалиях, а когда мы сидим с ней на берегу речушки, совсем не радуюсь, когда за спиной зашуршат кусты и Ангелика в обтягивающем ее спереди и сзади платье усядется рядом, глуповато морща лоб над нашими детскими загадками. У племянницы моей, правда, еще нет грудей, зато мелкие, как рисовые зерна, зубы и испачканный смородиной носик — забавнее. Мы бежим наперегонки, нянька отстает, я не против, если она споткнется и упадет, но потом я отсылаю племянницу домой и целый вечер мухлюю в общих играх, чтобы Ангелика выигрывала почаще, по-братски глажу ей руку, накидываю ей на плечи вязаный платок и, изображая ревность, поддразниваю: вон, дескать, как она в воскресенье вся раскраснелась и как весело напевала, возвращаясь с футбольного поля, где наш управляющий, долговязый, с высоким лбом молодой человек, кручеными ударами штурмовал ворота команды соседнего городка.