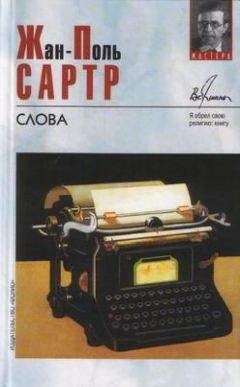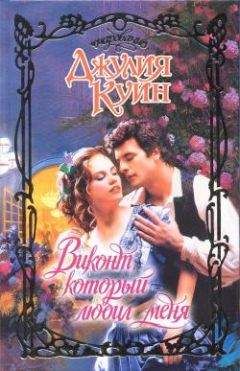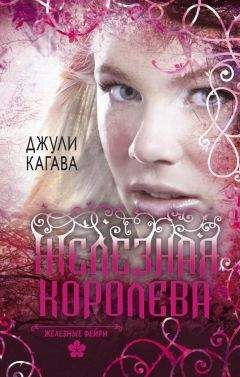Жан-Поль Сартр - II. Отсрочка
— Спросите, пожалуйста, у капитана, — сказала Франс, — не найдется ли у него минутка, чтобы принять мадемуазель Мод Дассиньи их женского оркестра «Малютки».
— Нет, — ответил стюард, — нет. Держу пари, что нет. Плетеные кресла, тень платанов. Даниель полоскался в допотопных докучных воспоминаниях; в Виши в 1920 году он задремал в плетеном кресле под высокими деревьями парка, на его губах была такая же вежливая улыбка, и его мать вязала рядом с ним, а сейчас Марсель вязала рядом с ним пинетки для ребенка, она с отрешенным видом думала о войне. Вечное жужжание большой мухи, сколько воды утекло со времени Виши, а эта муха все еще жужжала, пахло мятой; за их спиной в гостиной кто-то играл на фортепьяно уже лет двадцать, а может и сто. Немного солнца на пальцах, золотящего волоски фаланг, немного солнца на дне пустой чашки в лужице кофе и кусочке сахара, коричневом и пористом. Даниель раздавил сахар из мрачного удовольствия почувствовать под ложечкой этот скрежет сладкого песка. Сад мягко скользил к реке, вода была тепла и медлительна, запах нагревшихся растений и «Ревю де Де Монд», забытая месье де Летранжем, отставным полковником, на столе по другую сторону крыльца. Смерть, вечность, которой не избежать, сладкая, вкрадчивая вечность; зеленые пыльные листья над головами; извечный ворох палой листвы. Эмиль, единственный, кто был здесь жив, копал под каштанами. Это был сын хозяев, он бросил рядом с собой, на краю ямы, мешок из серого холста. В мешке лежала Зизи, околевшая собака: Эмиль рыл для нее могилу, на его голове была большая соломенная шляпа; пот блестел на голой спине. Низкорослый паренек, грубый и ничтожный, с топорным лицом — валуном с двумя горизонтальными мшистыми щелями вместо глаз, ему было семнадцать лет, он уже задирал подолы девицам, был местным чемпионом по биллиарду и курил сигары: но у него было такое незаслуженно восхитительное тело.
— Ах! — сказала Марсель, — если бы я решилась вам поверить…
Естественно. Естественно, она не решается ему верить. Но, в сущности, что ей за дело до войны? Она будет по-прежнему нагуливать жирок в какой-нибудь сельской глуши. Но скоро ли она уберется отсюда? Она пропускает час послеполуденного отдыха. Паренек нажимал ногой на лопату и наваливался изо всех сил; что если ласково положить руки ему на бедра и приподнимать их, едва надавливая, как массажист, в то время как он копает, коснуться работающих мышц спины, спрятать кончики пальцев во влажной тени подмышек; его пот пахнет чабрецом. Даниель выпил глоток сока.
— Хорошо, если бы все так и было, — сказала Марсель. — Но ведь уже начинается мобилизация.
— Но, моя дорогая Марсель, как вы можете позволить так обмануть себя? Home Fleet[29] сделает небольшой вояж по Северному морю, во Франции мобилизуют двести тысяч человек, Гитлер сосредоточит на чешской границе четыре танковых дивизии. А потом эти господа, вдоволь натешившись, смогут спокойно беседовать, усевшись вокруг стола.
Женские тела прилипают. Резина, мясо без костей, в руках всегда больше, чем нужно. Это же прекрасное тело вызывает вожделение скульптора, его хочется ваять. Даниель резко выпрямился в кресле и обратил на Марсель сверкающие глаза. «Только не это, не этот расслабленный порок, у меня еще не тот возраст. Я пью сок, я серьезно рассуждаю о грядущей войне, а в это время взгляд рассеянно скользит по молодой обнаженной спине, по немного напряженным бедрам, упивается всеми усладами летнего дня. Пусть она грянет! Пусть грянет эта война, пусть она придет укротить мои глаза, затушить их, пусть она всем им наконец покажет их грязные, кровоточащие, изуродованные тела, пусть она окончательно оторвет меня от всего вечного, от вечных вялых желаний, от вечных улыбок, от вечной листвы, от вечного жужжания мух, огненный гейзер поднимается к небу, пламя, обжигающее лицо и глаза, пусть покажется, будто вырвало щеки, пусть придет, наконец, безымянное мгновение, не похожее ни на одно другое».
— Но послушайте, — сказала Марсель с нежной снисходительностью, она вовсе не ценила его политическую проницательность, — Германия не может отступить, не так ли? А мы уже дошли до предела в своих компромиссах. Что же дальше?
— Не бойтесь, — горько сказал Даниель. — Предела нашим компромиссам нет. И потом, Германия может позволить себе роскошь отступить, кто осмелится назвать это отступлением? Это назовут великодушием.
Эмиль выпрямился, вытер лоб тыльной стороной ладони, его подмышка пламенела на солнце, он, улыбаясь, смотрел в небо, как молодой бог. Молодой бог! Даниель царапнул ручку кресла: сколько раз, Господи, сколько раз он говорил «молодой бог», созерцая юношу в лучах солнца. Тривиальные словечки старого гомосексуалиста, я педераст, он говорил себе и это, и это тоже были лишь слова, они его не трогали, и вдруг он подумал: «Что может изменить война?» Он будет сидеть на краю бруствера во время затишья, будет рассеянно смотреть на голую спину молодого солдата, роющего киркой землю или ищущего вшей, губы Даниеля сами собой снова будут шептать: молодой бог; от себя никуда не денешься.
— Да и что из того! — резко сказал он. — Почему мы об этом непрестанно думаем? Даже если будет война, это не должно занимать нас более всего остального.
— Даниель! — казалось, Марсель была ошеломлена. — Как вы можете так говорить? Ведь это будет… это будет ужасно.
Слова. Опять слова.
— Весь ужас в том, — улыбаясь, сказал Даниель, — что в мире нет ничего слишком ужасного. Мир — это царство середины.
Марсель немного удивленно посмотрела на него, у нее были мутные покрасневшие глаза. «Ее одолевает сон», — с удовлетворением подумал Даниель.
— Если бы вы говорили только о моральных муках, я бы это еще поняла. Но, Даниель! Есть еще и физические муки…
— Вот-вот! — сказал Даниель, грозя ей пальцем. — Вы уже думаете о ваших предстоящих муках. Что ж, скоро вы убедитесь, что и тут все преувеличено. Скоро убедитесь!
Подавив зевок, Марсель улыбнулась ему.
— Итак, — сказал он, вставая, — не мучьте себя, Марсель. Видите, вы чуть не пропустили время послеобеденного сна. Вы слишком мало спите; в вашем положении нужно спать как можно больше.
— Я недостаточно сплю? — зевая и смеясь в одно и то же время, сказала Марсель. — Скорее наоборот, мне стыдно, что я ничего не читаю и целые дни провожу в постели.
«К счастью» — подумал Даниель, целуя ей кончики пальцев.
— Могу спорить, — сказал он, — вы не написали вашей матери.
— Это правда, — сказала она, — я плохая дочь. — Она зевнула и добавила: — Напишу ой перед тем, как лечь.
— Нет, нет! — живо запротестовал Даниель. — Ложитесь немедленно. Я сам черкну ей несколько слов.
— Даниель! — воскликнула Марсель сконфуженно и восхищенно. — Письмо от зятя, она будет так этим гордиться!
Она, пошатываясь, поднялась на крыльцо, а Даниель снова уселся в кресло. Он зевнул, время текло, он заметил, что прислушивается к фортепьяно. Он посмотрел на часы: было двадцать пять минут четвертого. Марсель спустится в шесть часов, чтобы прогуляться для аппетита. «В моем распоряжении два с половиной часа», — сказал он себе опасливо. Когда-то одиночество было для него как воздух, которым дышишь, не замечая его. Теперь оно было ему даровано лихорадочными урывками, и он не знал больше, что с ним делать. «Но самое поразительное, что я, пожалуй, скучаю меньше, когда Марсель здесь. Ты этого хотел, — сказал он себе, — ты этого хотел!» На дне стакана оставалось немного сока, он его допил. Тем июльским вечером, когда он решил на ней жениться, он задыхался от тревоги, предчувствуя, что погружается в какой-то кошмар. И все ради того, чтобы закончить этим плетеным креслом, привкусом слегка прокисшего сока во рту, этой обнаженной спиной. Так же будет и на войне. Ужас всегда откладывается на завтра. Я женат, я солдат, везде только я. Даже не я: череда кратких эксцентричных гонок, мелкие центробежные движения, но центра-то и нет. Впрочем, центр есть. Центр один: я, я — и ужас в центре центра. Он поднял голову, муха жужжала на уровне глаз, он отогнал ее. Еще одно бегство. Незначительное движение руки, почти ничего, и он уже удирал от себя самого; что для меня значит эта муха? Быть из камня, неподвижным, бесчувственным, ни жеста, ни шума, быть слепым и глухим, мухи, уховертки, божьи коровки будут ползать взад и вперед по моему телу, свирепая статуя с пустыми глазницами, предмет, не имеющий ни планов, ни забот: может быть, тогда мне удастся совпасть с самим собой, не для того, чтобы принять себя, нет, только не это: чтобы стать, наконец, беспримесным объектом своей ненависти. Произошел разрыв, четыре ноты полонеза, молния этой спины, зуд в большом пальце, потом он собрал себя снова по частям. Быть тем, чем я являюсь, быть педерастом, злыднем, трусом, быть, наконец, этой грязью, которой не удается даже вполне существовать. Он сдвинул колени, положил ладони на бедра, ему захотелось смеяться: «Вот уж, должно быть, у меня благопристойный вид», но туг же пожал плечами: «Дурак! Больше не заботиться о том, как я выгляжу, больше не смотреть на себя, ведь именно когда я смотрю на себя, я неизбежно раздваиваюсь. Быть. В темноте, вслепую. Быть педерастом, как дуб есть дуб. Погаснуть. Загасить свой внутренний взгляд». Он подумал: «Загасить». Слово раскатилось, как гром, и отразилось в огромных пустых залах. Изгнать слова, они размножаются, как мыши, и каждое назначает ему свидание в конце него самого… Еще один разрыв. Даниель ощутил себя сонным скучающим человеком, у него всего два часа впереди, и он развлекается, как может. Быть таким, каким они меня видят, каким меня видит Матье — и Ральф в своей гнусной черепушке; надо прогнать слова, как комаров; он начал мысленно считать: раз, два — в голове у него мелькнуло: развлечение дачника. Но он стал считать быстрее, он сблизил звенья цепи, и слова больше не проходили. Пять, шесть, семь, восемь, подводные глубины, образ был там, притаившийся, отвратительный, завсегдатай дна жизни, морской паук, он расцветал, двадцать два, двадцать три. Даниель заметил, что сдерживает дыхание; он его отпустил, двадцать семь, двадцать восемь, тот все еще копал там, наверху, на поверхности; образ: это была зияющая рана, горестный рот, он кровоточил, это я, я — две раздвинутые губы, и кровь, булькающая между губами, тридцать три, образ был для него привычным, и тем не менее, он ощутил его впервые. Необходимо изгнать и образы; его охватил странный и легкий страх. Скользить, поддаться скольжению, как будто хочешь уснуть. Сейчас я усну! Он встрепенулся, всплыл на поверхность. Какая тишина вовне; эта расплющивающая, полумертвая тишина, которую он тщетно искал в себе, она была здесь, вне его, она наводила страх. Рассеянное солнце покрывало землю бледными подвижными кругами, околевшая собака, этот шум реки в верхушках деревьев, голая спина, такая близкая и такая далекая, он почувствовал себя таким ужасно чужим, что позволил себе снова уйти, он потек назад, теперь он видел сад внизу, как ныряльщик, который поднимает голову и смотрит на небо сквозь воду. Без шума, без голоса, какая тишина вокруг него, сверху, снизу, и он один, маленькое болтливое отверстие среди мертвой тишины. Раз, два, три, изгнать слово, пересекающее тишину сада, которое сходится и соединяется во мне, надо выровнять дыхание. Медленно, глубоко, чтобы каждая воздушная колонна прижала, как кнопку, слова, пытающиеся родиться. Быть, как дерево, как голая спина, как мерцающие лунки на розовой земле. Надо закрыть глаза: они уводят слишком далеко, прочь от мгновенья, прочь от меня, они уже там, на листве, на голой спине; затравленный, тайный, ускользающий взгляд всегда на оконечности себя, он щупает на расстоянии. Но Даниель не осмелился опустить веки: Эмиль, должно быть, время от времени смотрел на него снизу: наверно, у него вид пожилого господина, охваченного послеобеденной дремотой; сосредоточиться на предмете, скорее, дать пищу взгляду, сковать его, накормить и проскользнуть вглубь самого себя, освобожденного от глаз в моей густой тьме: он уставился на клумбу слева, большое зеленое застывшее движение: остановившаяся волна в момент, когда она рассыпается, потерявшийся взгляд, блуждающий с одного листа на другой и растворяющийся в этом растительном хаосе. Раз (вдох), два (выдох), три (вдох), четыре (выдох). Он, вращаясь, спускается, на ходу им овладевает щекочущее желание смеяться, я изображаю дервиша, если только не проглочу язык, но язык уже над ним, Даниель погружается, встречая разорванные слова: Страх, Вызов уже на поверхности. Вызов ясному небу, он думает о нем безобразно, бессловесно, небо должно открыться, как отверстие водостока. Под лазурью горький протест, тщетная мольба, Eli, Eli, lamma sabactani[30], это были последние слова, которые он встретил, они поднимались, как легкие пузырьки, зеленое изобилие клумбы было там, не увиденное, не названное, полнота присутствия перед его глазами, это приближается, это приближается. Это разрезало его, как серпом, это было необычное, приводящее в отчаяние, восхитительное. Опфытый, открытый, стручок лопается, открытый, открытый, сам удовлетворенный вечностью, педераст, злыдень, трус. Я вижу. Нет: на меня смотрят. Нет даже иначе: меня видят. Он был объектом взгляда. Взгляда, который обыскивал его до глубин, проникал в него ударом ножа и не был его взглядом; непрозрачный взгляд, сама ночь, которая ждала его там, в глубине его самого, труса, лицемера, педераста навечно. И он сам, трепещущий под этим взглядом и бросающий вызов этому взгляду. Взгляд. Ночь. Так, словно сама ночь была взглядом. Я видим. Прозрачен, проницаем, просверлен насквозь. Но кем? «Я не один», — громко сказал Даниель. Эмиль выпрямился.