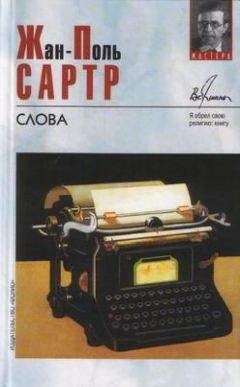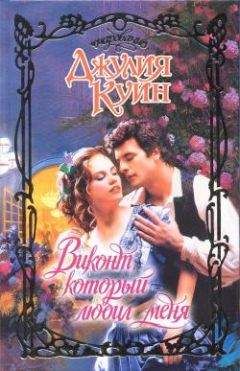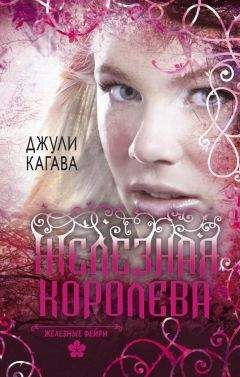Жан-Поль Сартр - II. Отсрочка
Он устал, был утомлен, он три раза провел рукой перед глазами, свет причинял ему боль, и Добери сосавший кончик карандаша, сказал своему собрату из «Морнинг Пост»: «У него солнечный улар». Он поднял руку и тихо произнес:
— Теперь, когда я вернулся, моя первейшая обязанность — сообщить французскому и английскому правительству о результатах моей миссии, и пока я это не сделаю, мне будет затруднительно что-либо о ней прилюдно сообщить.
Полдень окутывал его своим белым саваном, Доберн смотрел на него и думал о длинных пустынных дорогах между серыми и ржавыми, озаренными небесным огнем скалами. Старик еще более слабым голосом добавил:
— Этим я ограничусь: я верю, что все заинтересованные стороны продолжат усилия для мирного разрешения чехословацкой проблемы, ибо именно тут в данный момент кроются возможности европейского мира.
Она сосредоточенно собирает хлебные крошки со скатерти. Она немного подавлена, как в те дни, когда мучились сенной лихорадкой, она мне сказала: «У меня стоит ком в груди» и в расстройстве уронила несколько слезинок: скоро рухнет привычный уклад ее жизни. Я ей ответил: «Это пройдет». Она думает, что несчастна, это маленькое церебральное недомогание она считает несчастьем. Но она держится, полагая, что не имеет права распускаться, так как делит несчастье со всеми женщинами Франции. Достойная, спокойная, внушающая робость, она сидит, положив прекрасные руки на скатерть, и выглядит так, как будто восседает за кассой большого магазина. Она не думает, она не хочет думать, что ей будет спокойнее после моего отъезда. О чем ее мысли? О том, что на подставке для ножей ржавое пятно. Она щурит брови, скоблит ржавое пятно кончиком красного ногтя. Постепенно она успокоится. Ее мать, ее подруги, вышивка, двуспальная кровать для нее одной, она мало ест, она будет жарить себе на плитке глазунью, малышку кормить нетрудно, каши, все время каши, я ей говорил: «Дай мне все равно что, все время одно и то же, не старайся усложнять меню, я никогда не обращаю внимания на еду», — но она упрямилась, это был ее долг. — Жорж!
— Да, любимая?
— Хочешь отвара?
— Нет, спасибо.
Она, вздыхая, пьет отвар, у нее красные глаза. Но она на меня не смотрит, она смотрит на буфет, потому что он стоит прямо напротив нее. Ей нечего мне сказать, или же сейчас она скажет: «Не простудись». Возможно, она вообразит меня сегодня вечером в поезде — худая фигурка, осевшая в глубине купе, но здесь воображение ее остановится, дальнейшее представить слишком трудно; она думает о своем существовании без меня. Мой отъезд создаст в ее жизни пустоту. Совсем небольшую пустоту, моя Анд ре: ведь я произвожу так мало шума. Я сидел в кресле с книгой, она штопала чулок, нам нечего было друг другу сказать. Кресло всегда будет здесь. Основное — это кресло. Андре будет мне писать. Три раза в неделю. Прилежно. Она станет совсем серьезной, долго будет искать чернила, перо, светлые очки, затем с внушающим робость видом сядет за неудобный секретер, который она получила в наследство от своей прабабки Вассер: «У малышки режутся зубки, моя мать приедет на Рождество, мадам Анселен умерла, Эмильена выходит замуж в сентябре, жених очень хорош, среднего возраста, служит в страховой компании». Если у малышки будет коклюш, она от меня это скроет, чтобы я не волновался. «Бедный Жорж, ему не нужно это знать, он тревожится из-за пустяков». Она будет мне посылать посылки, колбасу, сахар, пачку кофе, пачку табака, пару шерстяных носков, банку сардин, таблетки сухого спирта, соленое масло. Одна посылка из десяти тысяч, такая же, как десять тысяч других; если мне по ошибке дадут посылку соседа, я этого не замечу, посылки, письма, каши Жаннетты, пятна на подставке для ножей, пыль на буфете, ей этого будет достаточно; вечером она скажет: «Я устала, я не могу с этим справиться». Она не будет читать газет, не больше, чем сейчас: она их ненавидит, потому что они потом валяются, где попало, и ими нельзя пользоваться для кухни и туалета в течение двух суток: мадам Эберто будет приходить к ней с новостями: мы одержали крупную победу, или дела идут скверно, мой дружочек, дела идут покуда скверно, наши топчутся на месте. Анри и Паскаль уже договорились с женами о шифрованном языке, чтобы сообщать, где они будут находиться: подчеркиваешь определенные буквы[28]. Но с Андре это бесполезно. Тем не менее, он может попытаться.
— Я постараюсь сообщить тебе, где я буду.
— А это не запрещено? — удивленно спросила она.
— Да, но люди что-то придумывают, знаешь, как во время войны 14-го года, к примеру, ты читаешь отдельно все заглавные буквы.
— Это очень сложно, — вздохнула она.
— Да нет же, вот увидишь, это совсем просто.
— Да, а потом ты попадешься, твои письма выбросят, а я буду волноваться.
— И все же стоит рискнуть.
— Как хочешь, мой друг, но знаешь ли, у меня с географией плохо… Я посмотрю по карте, увижу кружочек с названием внизу, что мне это даст?
И все же. В каком-то смысле, так лучше, намного лучше. Но, главное, она будет получать мое жалованье…
— Я отдал тебе доверенность?
— Да, любимый, я ее положила в секретер.
Так намного лучше. Но обременительно оставлять человека, который портит себе кровь, чувствуешь себя уязвимым. Я отодвигаю стул.
— Нет, нет! Мой бедняжка, не стоит сворачивать салфетку.
— Действительно.
Она не спрашивает у меня, куда я иду. Она никогда не спрашивает у меня, куда я иду. Я ей говорю:
— Пойду посмотрю на малышку.
— Не разбуди ее.
«Я ее не разбужу; даже если я этого захотел бы, мне не удалось бы достаточно пошуметь, чтобы разбудить ее, я очень легкий». Он толкнул дверь, один ставень открылся, и в комнату проникал ослепительный меловой день; одна половина комнаты была еще в тени, но другая сверкала под пыльным светом; малышка спада в колыбели, Жорж сел рядом с ней. Светлые волосы, нежный ротик и немного отвисшие пухлые щечки, которые придают ей вид английского чиновника. Она уже начинала меня любить. Солнце передвинулось вперед, он тихо переместил колыбель. «Сюда, сюда, вот так!»- Она не будет хорошенькой, она похожа на меня. Бедная девочка, лучше б она походила на мать. Еще вся мягкая, как бы лишенная костей. Но она уже носит в себе ту же непреклонную неопределенность, которая управляет мной, клетки будут размножаться, как это было у меня, позвонки затвердеют, как это происходило со мной, череп окостенеет по моему образцу. Маленькая невзрачная худышка с тусклыми волосами, сколиозом правого плеча и сильной близорукостью, она будет бесшумно скользить, не касаясь земли, обходя стороной людей и предметы, ибо будет слишком легкой и слабой, чтобы сдвигать их с места. Боже мой! Все эти годы, неумолимо предначертанные ей один за другим, и все так тщетно, так бесполезно, так предопределено здесь, в ее плоти, и ей нужно будет пройти свой путь, минуту за минутой, с верой, что судьба ей подвластна, а судьба ее была спрессована целиком здесь, тошнотворная в силу того, что определена загодя: он инфицировал это дитя собой, и потому ей предстоит прожить мою жизнь капля за каплей; и почему так устроено, что все на этой планете повторяется до бесконечности! Щупленькая малышка, маленькая ясновидящая, боязливая душа — все, что нужно для страдалицы. Я ухожу, я призван к другим обязанностям; она вырастет здесь, упорно и неосторожно, она будет здесь меня замещать. И коклюш, и долгие выздоровления, и эта злополучная тяга к красивым толстым розовотелым подругам, и зеркала, в которые она будет смотреться, думая: «Неужели я так некрасива, что меня никто не полюбит?» И все это день за днем, с горьковатым привкусом уже однажды испытанного, это ли не наказание, милосердный Боже, это ли не наказание? «Она на мгновенье проснулась и с серьезным любопытством посмотрела на отца, для нее это было совсем новое мгновенье, во всяком случае, ей кажется, что оно совсем новое. Он вынул ее из колыбели и крепко сжал в объятиях: «Моя маленькая! Маленькое мое дитя! Бедная моя малышка!» Но девочка испугалась и расплакалась.
— Жорж! — с упреком позвала из-за двери Андре. Он осторожно положил ребенка в колыбель. Еще мгновенье она смотрела на него, сурово нахмурив личико, потом ее глазки закрылись, моргая, открылись и закрылись окончательно. Она уже начинала меня любить. Нужно было бы присутствовать здесь день ото дня и так приучить ее к моему существованию, чтобы она даже не замечала меня. Сколько времени на это уйдет? Пять лет, шесть? Я увижу настоящую маленькую девочку, которая удивленно посмотрит на меня и подумает: «Это мой папа!», — она будет конфузиться из-за меня перед подругами. Это у меня тоже было. Когда мой папа вернулся с войны, мне было двенадцать. Послеполуденный свет наполнял почти всю комнату. Послеполуденная пора, война. Война должна походить на бесконечный излет полдня. Жорж бесшумно встал, тихо прикрыл окно и задернул штору.