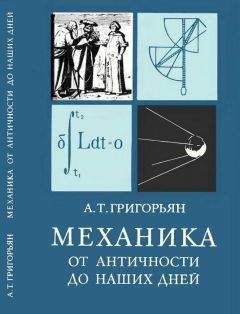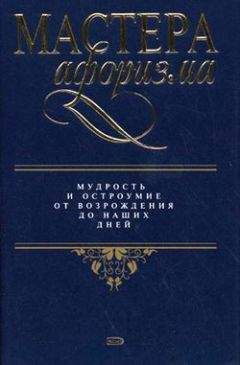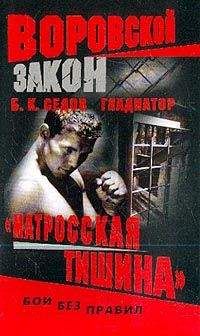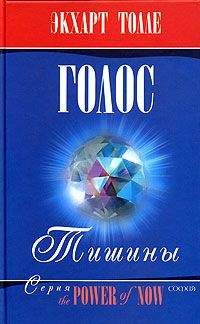История тишины от эпохи Возрождения до наших дней - Корбен Ален
Такое роптание, продолжавшееся на протяжении столетий, присутствует и в Евангелии от Матфея, когда тот повествует о Страстях Господних. В оливковой роще безмолвие апостолов (они спят) выстраивается в параллель и усиливает безмолвие Бога-Отца, к которому обращается Иисус на кресте: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф., 27:46). Отстраненность Отца вызывает в душе Христа муки горя и отчаяние. Пьер Куланж справедливо замечает, что бездействие Бога в эпизоде Страстей — это «ось, на которой держатся» всё Евангелие и все попытки проникнуть в суть тайны Божьего бытия [255].
Этот основополагающий вопрос с настойчивостью поднимается на протяжении веков, им задавались даже великие святые — доказательством тому служат, в частности, сочинения Терезы Авильской и позднее — Терезы Младенца Иисуса, а также записи матери Терезы.
Среди авторов XIX столетия следует назвать, прежде всего, Альфреда де Виньи — его отчаянный возглас в ответ на Божье молчание раздается, пожалуй, громче остальных, хотя де Виньи, видя безучастность Всевышнего, не делает заключения о Его небытии.
В этом фрагменте из «Оливковой горы», озаглавленном «Молчание», де Виньи не вполне точен, поскольку Иисус обращается к Отцу, сетуя на то, что тот покинул Его, уже позже, распятый на кресте. Наиболее сильной стороной отчаянного ропота Альфреда де Виньи на отстраненность Бога является, без сомнения, сам ответ писателя на Его безмолвие. В сущности, это не всплеск возмущения, но — презрение. В 1859 гощу он возвращается к данному мотиву: «Возьмите пример с Будды и просто не говорите с тем, кто сам молчит»; затем в 1862-м пишет: «Не обращай к Богу слово и никогда не пиши Ему. [...] Отвечай молчаньем на молчанье». Показательны в этом отношении также строки де Виньи: «Немые небеса не снизошли до разговора с нами»; «Понтифики, вы бдительность храните, или молчание услышите в ответ на вечное молчанье Бога» [257].
Впрочем, убежденность в том, что сокрытый Бог, Deus absconditus, никогда не нарушит молчания, внушая тем самым человеку презрение, отнюдь не означает Его смерти. Сидя за рабочим столом у себя в кабинете и трудясь над «Оливковой горой», Альфред де Виньи выводит образ исполненного сомнений Христа, который говорит: «Сын человека я, не Бога» — и отказывается от попыток диалога с небесами. Однако не следует путать Виньи с Ницше.
Восприятие Виктора Гюго отличается большей двойственностью. Он никогда не переставал надеяться, что Господь все же существует, и верил в Него, хотя и не переставал негодовать на Его молчание.
Схожий мотив проходит и в стихотворении «Волхвы»:
Непостижимое Господне безмолвие присутствует и в Новом Завете — здесь это молчание Иисуса. В эпизоде с женщиной, нарушившей верность мужу, Иисус, видя, что ее готовятся забрасывать камнями, молчит и отворачивает взгляд. Эта бесстрастность резко контрастирует с озлобленностью карателей. Однако она не случайна и не напрасна, поскольку приводит к осознанию того факта, что каждый из нас должен предстать перед судом собственной совести, который гораздо могущественнее и серьезнее по сравнению с преследованием по закону. Выше мы уже говорили о том, что в библейском контексте молчание — особый вид слова, обращающий внимание человека вовнутрь. По большому счету, если рассматривать проблему в этой перспективе, все Евангелие предстает одним сплошным пространством молчания.
Заметим еще раз, что безмолвие Бога часто приносит христианину страдание и боль, наполняет его душу сомнениями, колеблет веру. В своем презрении Альфред де Виньи не одинок; для многих людей, особенно в XIX столетии, молчание Всевышнего служило доказательством Его небытия. В стихотворении «Христос в Оливковой роще» из сборника Жерара де Нерваля «Химеры» слова «молчание» нет. Но при этом поэт показывает, что речь Христа, обращенная к Отцу, остается без ответа.
И далее Иисус сетует:
В этом стихотворении Нерваля Иисус предстает вечной жертвой, духовным страдальцем.
В романе «Собор» Гюисманс показывает муки и смятение преданной христианки, кроткой мадам Бавуаль, которую охватывает отчаяние при мысли о безучастности Бога. Она делится своей душевной болью с Дюрталем: Господь не внемлет ее молитвам. Он замолчал. «Он больше не говорит со мной, не является в видениях. Я стала глуха и слепа. Бог молчит» [260]. Дюрталю не дают покоя подобные мысли, причем он мучится сомнениями постоянно: «Мы обращаем мольбы к вечному безмолвию, и нет ответа; томимся напрасным ожиданием, никто не внимает и не происходит ровным счетом ничего; мы тратим слова впустую, называя Его Бесконечным, Непостижимым, Непознаваемым, все попытки разума прорваться к Нему сквозь глухую завесу оказываются бесплодны, и никак не удается бросить такие попытки и, главное, перестать тревожиться и страдать по этому поводу!» [261]
В XX веке, когда растет недоверие к религии, молчание Бога — и, соответственно, недоумение, растерянность, муки, гнев и возмущение, вызванные Его равнодушием, — затушевываются и словно бы выветриваются из литературы. В частности, Стефан Мишо исследовал этот мотив у трех писателей: Пауля Целана, Ива Бонфуа и Мишеля Деги. Мишо пришел к заключению, что в современной поэзии безмолвие Господа, в сущности, не отражено, и следовательно, стихи не исполнены того болезненного чувства, о котором шла речь выше, или же поэты обходят проблему стороной. Писатели в большинстве своем перестали задаваться вопросом, является ли молчание Бога Его словом, способом обращения к миру. Обшей тенденцией в поэзии стало разобщение художественного творчества и религии, их расхождение и разрыв существовавших между ними ранее генетических связей. Так, в произведениях Пауля Целана, с точки зрения Стефана Мишо, «Тишина оглушительна, Пустота вопиюща», и ничто не указывает на присутствие Бога, который молчит, глядя на людские страдания [262]