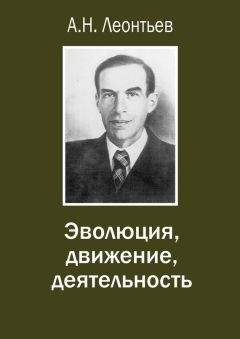Алексей Ильин - Время воздаяния
— Да, конечно, ты совершенно прав, но что же делать?.. Мы ведь, если ты не вовсе забыл, затем и скрылись тут, среди таких же, как и мы… У каждого из них своя история: мой муж, например…
— Послушай, я совершенно не желаю знать историю твоего мужа…
— А совершенно напрас…
— …не желаю. И не в ней сейчас дело. Зачем? Зачем делаем это мы и делают все вокруг? Мы лжем друг другу в глаза, прекрасно зная, что лжем… И что в ответ слышим точно такую же ложь. Зачем мы играем весь этот спектакль?
Я разгорячился, вскочил. Лили продолжала полулежать — обретенное здесь тело, которое она носила, как женщины носят красивое платье, совсем заставило ее забыть старую привычку сидеть, поджав ноги.
— Не лучше ли раскрыть, наконец, глаза, перестать лгать — друг другу, себе и всему свету, предстать уж такими, какими мы порождены? В конце концов — неужели у творца — всемилостивого — не хватит милости для нас? Ведь мы теперь тоже часть мира, который он породил! Неужели нам нельзя занять в нем немножечко места, не умножая поминутно ложь, которой мы все уже оплетены, как болотной тиною?
Лили ничего не отвечала мне, только безотчетно теребила пальцами свой амулет и только смотрела — снизу вверх, запрокинув лицо.
— Н — ну, — наконец неуверенно начала она, — ведь есть среди… нас…
— Да, да, я знаю, — раздраженно отмахнулся я, — уроды, монстры, я уже успел навидаться… отнят у меня дар расправляться с такими, а не то… Впрочем — какое я теперь имею на это право? — пришлось заключить горько.
— Но все остальные — то? — продолжил я уже спокойнее. — Они ведь почти совсем уже люди — если людей считать образцом — что, кстати сказать, тоже не бесспорная истина. Все эти твари болотные — живут себе по деревням, по хуторам… даже идолов своих старых оставили… ну… — почти. Ну пойдут они, как завершится их земной круг, в преисподнюю, в огонь, в топку вечную… Может и мы туда пойдем с тобою…
Лили передернуло.
— Ну хорошо, хорошо… Но — зачем? Зачем — все — это?
— Есть одна причина, — ответила, наконец, совершенно спокойно и серьезно Лили, — та, от которой мы и забрались сюда в такой спешке.
Мы сидели с нею — вернее я стоял, а она полулежала на скамейке — в беседке, что в дальнем конце уже начинавшего отпотевать вечерней сыростью сада, и казалось, что юный стройный гимназист читает что — то: возможно стихи — благосклонно внимающей ему тетушке.
— Я ведь рассказывала тебе уже… — продолжала между тем говорить Лили. — Как давно это было, — и она печально вздохнула, — люди боятся и презирают нас, а даже, если и не боятся — все равно: мы — чужие; мы, быть может, братья и сестры, но — сводные, рожденные от матерей, ревновавших и ненавидевших друг друга. Нас просто уничтожат — поодиночке или еще как…
— Здесь? — только и спросил я.
— Конечно. Что тебя удивляет? Что может помешать им орудовать здесь с такой же легкостью, что и в любом другом месте? Только то, что — широк этот край пока еще, и не так просто сыскать в нем кого — то определенного, да и климат здесь гнусный — наши «попечители» всего лишь люди, копошиться здесь в холоде, сырости и осенней грязи — отнюдь не для поощрения отправляют (это мне Шнопс рассказывал)… Да и много нас здесь — как тут искать в этом сонмище?
Она снова вздохнула.
— Ну, хорошо, пусть так, — медленно начал я, — но что мешает нам с тобой…
Она фыркнула:
— О, боже мой — ты действительно превратился в зеленого юнца… Ну что ты говоришь… — На что мы будем жить? Где? Вообще — как?
— Послушай, ты была нищей бродяжкой многие века, — возможно, чуть резче, чем следовало, напомнил я ей. — Почему же теперь…
— Во — первых это не всегда было так, — прервала меня она. — Во — вторых мне это надоело: так гораздо лучше, — и она кокетливо поболтала в воздухе носком туфли.
— Но я тебя…
Она прервала меня снова, даже, потянувшись, прикрыла мне рот кончиками пальцев:
— Нет, мой милый, ты не любишь меня… Не обманывай себя — не любишь как невесту или жену… Мы с тобою… Ну, скажем, как… родственники… — она неожиданно лукаво усмехнулась: — То, что между нами иногда происходит — почти инцест. Не вижу, впрочем, ничего в нем плохого, иногда это даже… ммм… пикантно, — она рассмеялась. Но и родственница — то я тебе — поневоле: так — привязало мою судьбу к твоей где — то посредине — да вообще невесть как… Вот и таскаюсь за тобой…
Я склонился над нею, как склонялся уже несколько раз в протяжении нескончаемого перепутанного сумасшедшими петлями времени; знойные пустынные ветры, казалось, повеяли откуда — то издалека, и в сырость вечернего сада, на одевшуюся росой траву пало их сухое горячечное дыхание, зазвенели песчинки по оставленному кем — то в беседке чайному блюдечку, призрачные клубки несомой ветром колючки прокатились с сухим шорохом по ветхим деревянным ступеням; я взял ее лицо в свои ладони:
— Зачем, — снова спросил я у нее, — зачем тогда мы делаем это? Ведь без любви это — блуд, яд, способный отравить и умертвить все — все превратить в грязь, мерзость, все привести к погибели вечной?
— Знаешь, — ответила она, не пытаясь высвободиться — за свою долгую жизнь: безумицы, отверженной родным племенем, жрицы любви, что повелевала владыками и делала глупцами мудрых, нищенки и бродяжки, что прошла своими босыми ногами все когда — либо существовавшие в мире дороги — я поняла простую истину: нельзя — никогда нельзя отказываться от радости, посылаемой тебе богом — в следующий раз он ее уже, быть может, не пошлет. Мы раз за разом делаем это — безумно отказываемся от того, что даруется нам просто так — не за какие — то наши заслуги, а просто — от великой его милости — милости даже к нам, отверженным: я уже не говорю про возлюбленных его чад — людей; но все мы поступаем так — чаще всего из страха или неверия, а потом — особенно в старости — удивляемся: отчего это наша жизнь так скучна, тягостна, бесцветна; так — безрадостна?
— А если — не богом? — спросил я тогда, не выпуская ее лицо из своих ладоней и глядя прямо в ее спокойные глаза.
— Радость? — переспросила она, и сама ответила убежденно: — Радость — богом. Тьма не способна давать радость — только лишь удовлетворение, а это разные вещи… уж ты мне поверь.
Вот что сказала мне эта удивительная женщина на закате дня последней осени последнего века человеческого детства.
* * *Уже на следующий год все закончилось, как и всегда все заканчивается: история вышла банальной до пошлости — нас выследил муж, которому, наконец, надоели сплетни, была сцена, даже вызов на дуэль; Лили металась, обнимала его колени, рыдала — и дуэль расстроилась, кажется, ко всеобщему облегчению — муж был состоятельный откупщик, с заметно выпиравшим из жилетки брюшком, румяными щечками и чуть заметной лысинкой на затылке среди черных, вьющихся волос; их сочетание с дуэльным пистолетом представлялось решительно невозможным. С меня было взято слово дворянина «не иметь более никаких сношений с его женой», что нельзя не признать вполне резонным: я с грустью подумал, что простодушный малый явно не догадывается об истинном характере наших «сношений», в противном случае, его безо всякой дуэли попросту хватил бы удар — люди, подобные ему, чрезвычайно завистливы. Через месяц они уехали за границу.
Я, разумеется, остался. Давно ожидая подобного исхода, я даже не слишком расстроился, только в груди снова, как это уже бывало прежде, поселилась гулкая пустота — точно в заброшенном амбаре зимою. Это, впрочем, не помешало мне погрузиться в занятия: года два уж было, как я закончил гимназию; без особенных раздумий, довольно бессмысленно поступил в университет на юридический; однако в юриспруденции ничего не понимал, читал зачем — то какое — то железнодорожное законодательство и кончил тем, что дальнейших событий того года не помнил уже совершенно.
Были, впрочем, к этому моему относительному безмыслию и безвольному следованию случайным, не мною выбранным руслом и другие, совсем другие причины. С самого детства, с первых гимназических лет — смутно — а после такой нежданной и такой неизбежной встречи с моей давней спутницей — остро и отчетливо — стали мне вспоминаться пути мои по бесконечным дорогам древних царств, и встречи мои на этих дорогах, и долгие беседы — порою в полдневной пыли, а порою — в свете привычно сложенного полночного костра; беседы и наставления, и споры, и возвещение смертным утешительной вести об ожидающем их прекрасном уделе и бессмертии души их, воскресении и жизни. То вещал моими устами дух святый, данный мне на время, взаймы — для исполнения моего предназначения — чего однажды так страстно и так опрометчиво взыскал я, обратившись воплем своим к великому небу. Но глагол, полученный через меня случайными и неслучайными слушателями моими и учениками, давал — пусть редкие — всходы в их душе, давал им силу и власть самим нести частицу его своим соплеменникам и дальше — другим народам и странам, и много за века было у меня таких неведомых помощников и гонцов, иначе дело мое так, быть может, и не дало бы плодов столь великих.