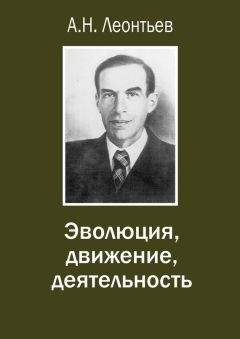Алексей Ильин - Время воздаяния
— Смотри, — приказала Лили; усмехнувшись, добавила: — И помни.
И я глянул вниз своим некогда дарованным и оставленным мне как бы на память и в назидание чудесным взором, и крик изумления и ужаса исторгся из моего простуженного на морозе горла — вдруг охватив единым взором весь этот бесприютный край, я увидел в нем целую огромную страну, всю населенную такими же злосчастными созданиями, как и мы!
— Нам туда, — Лили вздохнула: — Больше некуда.
IV
Я родился поздней осенью 1880 года в имперской столице, но вскоре был перевезен матерью в имение деда, в то время — ректора столичного университета. Отец мой в провинции — тогда, как, впрочем, и всегда, неспокойной, мятежной — был профессором права; я, однако же, никогда его не знал — с матерью они разошлись еще до моего рождения, и детство мне довелось провести в окружении дивной природы обширного нашего имения, где решительно все — бабушка, ее дочери (а мои тетки) и, главное, моя мать — так или иначе занимались литературой: переводили, писали стихи, и проч. Меня свято оберегали от малейших соприкосновений с внешним миром, с «грубой жизнью»; я рос сосредоточенным, углубленным в себя, только немного скучал по верблюжьему молоку: я пытался как — то доить деревенских коз на выгоне, но одна из теток, ненадолго оторвавшаяся от своих литературных трудов, случайно — прогуливаясь «для моциона» — забрела в это время на выгон, сказала «фи» — и мне строго — настрого запретили показывать там нос. Я был послушный ребенок и больше там действительно не показывался.
С самого раннего детства я помню постоянно набегавшие на меня, будто из глуби времен, лирические волны; в семье вообще господствовали старинные понятия о литературных ценностях и идеалах, и меня приобщали к ним по мере моего развития. Впрочем, времени свободного было у меня при этом много, меня никто в семье никогда ни к чему специально не принуждал, все только любили и баловали. Я начал было сам пописывать стишки, позже мы с двоюродными и троюродными братьями основали журнал — в одном экземпляре. Но главное, я тогда вдруг увлекся: однажды во время краткой поездки в город увиденным театром. Мне казалось, я помнил смутно, что будто бы встречались мне когда — то бродячие шуты, что кривлялись с размалеванными лицами перед толпою, вызывая лишь жалость и отвращение к себе; мне казалось тогда, будто я глотнул или измазался с головы до ног в какой — то смутной мерзости. Но теперь все было иначе — картон и румяна, нарочито насыщенные чувствами речи в замкнутом и затемненном зале, на возвышении, освещенном цветными фонарями, произвели на меня невероятное впечатление наяву происходящего чуда: я все же был ребенок. И вернувшись в имение, ни о чем уже не мог я думать и ничем более заниматься, как устроением собственного театра; я сам писал для него пьесы — в стихах — сам из картона клеил гуммиарабиком рыцарские латы и шлем; вовлекал в свои занятия всех, кто только мне ни попадался.
В гимназию я пошел, когда почти уже исполнилось мне девять лет; ничем особенно хорошим или плохим то время для меня не памятно и не сыграло в моей жизни важной роли. Некоторые успехи делал я в древних языках, за что не раз ставился в пример. Так, в занятиях и задумчивости я прожил до семнадцати человеческих лет.
…Она была подругою моей матери, на двадцать лет старше меня. Я и не обратил на нее поначалу особенного внимания: так, черноволосая женщина, с мягким южным говором, как все уроженки тех мест — чуть полноватая; однако свежая эта ее полнота шла к ней необычайно — как и лукавый прищуренный взгляд карих глаз, как и чуть заметный темный пушок у самых уголков сочных, вечно тронутых странной, будто немного безумной полуулыбкой, губ. В жаркий июльский полдень как — то между делом остались мы одни на затененной от солнца веранде, открытой с трех сторон, отчего легкие занавеси на окнах и дверях развевались будто паруса, то надувая свои пышные груди, то хлопая самих себя пыльными оборками, точно в приступе кашля. Солнечный свет, пропущенный сквозь сито соломенных циновок старательно рисовал светлую и темную вязь на полу у ее босых ступней, на ее юбках, небрежно поддернутых по случаю жаркой погоды выше щиколоток, на коленях, на открытых воздуху и солнцу плечах… С ее белой холеной шеи в манящую ложбинку меж налитых грудей свешивался простой медальон — в виде рогатого волка, воздевшего раскрытую пасть и передние, украшенные страшными когтями, лапы к невидимой луне.
— Помнишь меня? — только лишь спросила она.
Несколько минут — именно: не менее нескольких минут — я молча глядел в ее глаза, смеющиеся и горящие радостью встречи — встречи после долгой, невыносимо долгой разлуки — и не мог вымолвить ни слова. Вид у меня был, вероятно, совершенно невозможный, ибо я вдруг вспомнил все, совершенно все — даже то, что никогда и никак вспомнить не мог: вихрем, сумасшедшим театральным хороводом пронеслись предо мною пески пустыни и караваны в этих песках, проходящие мимо одного из чудес света, которым был я тогда — я вспомнил даже, как стал этим чудом — как крошечной песчаною змейкой выползши из пустынной глубины, хоронился я в каменных щелях и ходах воздвигаемого вокруг меня величественного кокона, как пригрелся и прижился в нем, как, погружаясь в тысячелетний сон, стал перерождаться в иное существо, как очнулся от этого своего сна — невесть по чьему зову или велению, отправился в путь… Я вспомнил! Я вспомнил ее! И ее спутника, что по неразумию своему молил меня о пощаде, пытался жалкими людскими сокровищами купить у меня свою жалкую жизнь — но она… она — то знала уже тогда, что не нужны мне ни сокровища их, ни жизни, что другой у меня путь и другое предначертание сведет в конце концов нас с нею на пыльном перекрестке давно забытых дорог, чтобы утвердить наконец последнюю из оставшихся великих истин, что подобно опорным колоннам держат на себе свод мироздания.
Мы целовались, будто ненасытными глотками пили друг друга после долгой жажды: казалось, только ножом можно было разлучить наши впившиеся друг в друга губы. В моем гудящем и темнеющем мозгу кружились воспоминания о странствиях, о великом возвышении благодаря чудесно обретенному мною дару, сотни стихов, вдохновленных моим словом, одновременно на всех языках звучали у меня в ушах; я видел себя в вышине священного дворца, воздвигнутого в честь и славу веры и учения, что я проповедовал, видел себя в белых, развевающихся за спиною одеждах — а меж тем неумелыми еще юношескими пальцами стаскивал с волшебных своей напоенною летним зноем сладостью плеч широкий ворот белоснежной блузы и приникал поцелуями к розовым, не знавшим детских губ сосцам, как когда — то давно — к тем, что питали меня в самом начале моего существования — осторожно, но жадно: и сладко содрогалось дивное тело, которое будто бы уже не принадлежало реально живущей женщине, а существовало просто само по себе, как было оно сотворено изначально и на вечные времена, как небо, как земля, как вода, вздувающаяся от хрустальной силы могучих горных ледников, что вливаются в нее по весне.
Нас не тревожила ни единая живая душа — хотя так почти и не бывает никогда — средь бела дня, перед самым обедом, в поместье, наполненном родственниками, приезжими друзьями, бедными студентами, приживалками, везде и всюду сующей свой нос прислугой; однако удивительная сила хранила нас от всего этого, будто воздвигнув невидимый прозрачный колокол вокруг всей веранды, где длилось и длилось бесконечно наше невозможное, невероятное свидание.
Я повалил ее на кушетку, безобразно задрал юбки, жадно целовал раскрывшуюся, точно розовый бутон и в жарком безумии дрожащую плоть, наконец овладел ею уже настоящим образом, долго, бесконечно долго любил и ласкал ее всевозможными причудливыми способами, что как из тайного древнего источника влились наконец в девственное до той поры сознание семнадцатилетнего гимназиста. Она не издавала не единого звука, но казалось, что тело ее — уже совершенно сорвавшееся с привязи и бросившее на произвол судьбы и разум ее и душу, беззвучно кричит от нестерпимого наслаждения, счастья живой и с каждым моим движением наполняющейся все новой жизнью плоти, которая не нуждается уже ни в чем, только в этих ласках, этой любви…
«Любви?.. — вдруг услышал я, как это со мною уже бывало прежде, неприятный, идущий будто из самого центра мозга, голос. — Так не её ли ты проповедовал долгие века в своих скитаниях по свету, полных невзгод, лишений и самоотречения? Вот она — перед тобою: посмотри, как сладко вздымается и опадает ее живот, как манят к себе уже уставшие, но все равно жадно раскрытые лепестки меж раздвинутых в целомудренном бесстыдстве бедер? И ты познал это только теперь? Выходит, многие века ты учил сам не зная чему?»
Мы, наконец, утомились. Ни единого звука по — прежнему не доносилось ниоткуда, лишь сухо шуршала чуть колеблемая ветром циновка, да где — то забившаяся в угол оса сердито зудела, не понимая, как ей найти выход из этого ее ничтожного тупичка, да непременные в жаркий летний день кузнечики объяснялись в любви избранницам на скрипучем и суетливом своем языке. Несмотря на это ощущение полного покоя, накрывшего нас, точно льняной простынею, Лили, как нашкодившая кошка, стрельнула глазами по сторонам: убедившись, что наши — на самый снисходительный взгляд — незаурядные проделки остались, по — видимому, незамеченными, она стала с комично благонравным видом приводить себя в порядок, поправлять сбитую прическу, и вообще всячески прихорашиваться. Я бессильно сполз к ее ногам и, чувствуя в голове полную и весьма приятную пустоту, стал целовать кончики ее пальцев, порою смахивая с них прилипшие соринки. «Что, хороша?» — спросила она. «Хороша, хороша, — ответил я, еле ворочая уставшим языком. — Откуда, — я провел рукою по ее бедру, — все это?» — «Нравится? — усмехнулась она. — Ну, местные женщины уж таковы, что поделать… Да, правду сказать, мне и надоел мой прежний вид — за столько — то времени. Этак, — и она безо всякого смущения потискала груди обеими руками, — приятнее» — «Как тебя зовут — теперь?» — спросил я. Она откликнулась почему — то не сразу: