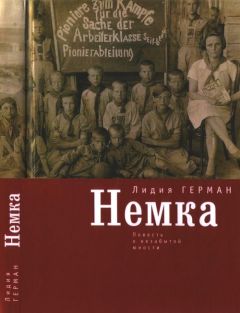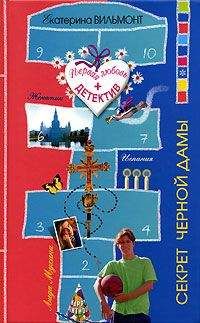Йоргос Сеферис - Шесть ночей на Акрополе
Калликлис внезапно умолк.
— И что же ты сделал? — спросил Нондас.
— Глупость, — вздохнул Калликлис. — А как иначе найти управу на подобных созданий?
Он неожиданно засмеялся, а затем вынул платок и вытер рот.
— Знаешь, почему я смеюсь? Смеюсь над твоей глупостью, потому что ты пытался вести богословский диспут с этой сумасшедшей. Ну и пусть. Чтобы не болтать лишнего, я пытался было переменить тему разговора. «Не расстраивайся, — говорю я ей. — Я вот только что подумал о вчерашнем вечере. Сидели мы в таверне. Рядом с нами был пьяный, который пел то „Травиату“, то „Риголетто“, а в промежутках то и дело пропускал стаканчик. Когда он уже слишком перебрал, хозяин таверны подошел к нему и стал уговаривать по-доброму: „Ну, довольно, Сосунок. Довольно. Спать пора“. А тот все на свой лад поет: „Спать по-о-о-о-ра… Спать по-о-о-о-ра…“. Наконец поднялся он пьяный вдрызг, посмотрел в потолок и заорал от всей души: „Подними юбку и покажи мне туза червей… Эх!“ И…»
— И что же? — переспросил Нондас.
— Туз червей! — быстро проговорил Калликлис.
На лице у Нондаса появилось недоумение, а затем брезгливость.
— Какая мерзость! — сказал он.
Нондас позвал официанта, расплатился и поспешно ушел.
Калликлис снисходительно позволил ему уйти, а затем не спеша отправился бродить по улицам.
— Двое! Трое! Четырое! Ха-ха-ха! — изрек Лонгоманос.
Пальцем, который опоясывало широкое кольцо, он указал на самого себя, на Сфингу и на Лалу.
— Добро пожаловать! Добро пожаловать!
Он сидел на деревянном сиденье, напоминавшем то ли кресло, то ли церковную скамью. В глубине комнаты, скрестив ноги, сидел Кнут.
Сфинга держала пастуший посох, Лала — сумку, украшенную вышитым народным орнаментом, Стратис — книгу. Самым замечательным в тот вечер было то обстоятельство, что их сопровождал Николас.
— Четырое? — переспросила Лала.
— Ха-ха-ха! — снова засмеялся Лонгоманос. — Да, ты и есть четырое — дитя!
В нем чувствовались страсть и вдохновение.
— Дитя Пасифая! Как и дитя Геракл! Многожеланное дитя!.. Прекрасно!.. Прекрасно!..
Сфинга улыбалась. Лонгоманос обратил к ней свой лик:
— Верная моя, сегодня я думаю наречь тебя Европой!
Улыбка на лице у Сфинги застыла.
— Жаль! — сказал Стратис. — Я бы предпочел Кирку.
— Однако Европе надлежит держать этот старческий посох.
Посох упал на пол. Николас поднял его.
— Да уйдет она побыстрее в свою яму! — сделав размашистый жест рукой, сказал Лонгоманос. — Вы видите ее! Она широко отверзнута!
Николас внимательно поглядел на пол и отодвинул свою скамью. Лонгоманос смерил его суровым взглядом.
— Извините, — сказал Николас, — но ямы мне не нравятся. Когда-то…
Продолжить он не смог: безразличный взгляд Лонгоманоса оставил его в полном замешательстве и устремился теперь на книгу Стратиса:
— Юноша! Я вижу, ты читаешь. Что ты читаешь?
— Это «Золотой осел», — ответил Стратис.
— Какой осел? — спросил Лонгоманос, внезапно обращаясь снова к Николасу.
— Золотой, — сказал Николас, словно ученик, которого желает подловить учитель. — Золотой, из Гипаты.[134]
— Это Апулей, — добавил Стратис. — Я развлекаюсь им, когда в автобусах или трамваях бывает толчея.
— A! De asino aureo, — сказал Лонгоманос. — Кошмарные призраки, пьющие кровь…
Он посмотрел на Сфингу, словно стараясь что-то вспомнить:
— …Кажется, в августе… Конечно же, в августе!..
Глаза Сфинги испуганно умоляли.
— … Ужасно! Ужасно!.. При полной августовской луне!.. Уже скоро… Уже половина!.. Audax Hecate!..[135]
На мгновение Лонгоманос уставился в упор на тело Лалы, словно высматривая, откуда бы начать обнажение. Лик его был полон священного трепета и бесстыдства. Он прорычал:
— Tibi nudato pectore![136]
Латинские слова забивали ему рот, словно огромные куски пищи.
Сфинга побледнела, как воск. Лале было неприятно: она попыталась избавиться от пристального внимания к себе и помочь Сфинге.
— Тогда был другой календарь. Возможно, это был не наш август, — робко пробормотала она.
— Я не обратил внимания на месяц, — сказал Стратис. — Впрочем, не нахожу это столь ужасным. Иногда книга производит на меня впечатление джаза.
— Джаз! — сказал Лонгоманос так, словно разгрыз лесной орех. — Это еще что такое?
— Музыка американских негров или, пожалуй, их способ извлекать музыку из всего, что попадется под руку, — из чего угодно.
— И это дает пищу твоей душе? — презрительно спросил Лонгоманос.
— Я бы не говорил об этом столь выспренно, но это развлекает меня, как и Луций,[137] который извлекает колдовство из чего угодно.
— Бессмысленная роскошь!
— Возможно, роскошь бедности: каждый живет как может? — сказал Стратис.
Николас сжался на своем сиденье как только мог, словно стараясь занимать как можно меньше места. Им и заинтересовался теперь Лонгоманос.
— А Вас?! Вас что развлекает? — повелительным тоном спросил он.
Словно человек, которого заставляют выступать перед бесчисленной аудиторией, почти в состоянии каталепсии, Николас ответил:
— Извозчик, склоняющийся, словно органист, чтобы услышать стук конских подков, ударяющих об асфальт. Спекулянт, беседующий у двери биржи, подавая тебе знак взглядом или жестом, чтобы ты подтвердил его правоту. Дама, чувствующая в левой груди более тяжести, чем в правой и потому считающая, что она больна астмой. Запах ваксы на Омонии и крем горького миндаля «Афинская красота», который…
Кнут оставил карандаш и блокнот и простер руки к Лонгоманосу, который в полном изумлении выпучил глаза.
— Погоди! Погоди! — воскликнул тот. — Мы захлебнемся в этом водостоке!
— Простите, — робко ответил Николас. — Вы спросили меня…
— Стало быть, вот как Вы проводите время. Как я вижу, душа Ваша лишена великого грядущего.
Он снова взглянул на Стратиса.
— Мне кажется, весь вопрос в том, как спасти свой день от грядущего, — тихо проговорил Николас.
— Декаданс! — воскликнул Лонгоманос, словно опуская нож гильотины.
— Когда удается сосредоточиться, я читаю и Эсхила, — сказал Стратис.
— «Раззолоченный ослик», — с отвращением сказал Лонгоманос, — и Эсхил — вот противозаконная смесь нашей эпохи.
— Они случайно оказались рядом в моей библиотеке.
— Поэтому нужно сжечь библиотеки.
— Будем ли мы писать после этого лучше? — меланхолически спросил сам себя Стратис.
— Будем ли мы писать? Будем писать! Но что я слышу от вас? Наша великая задача — создавать типы пророчески будущие…
— Я не нахожу таких типов у Эсхила.
— Не находишь?! Эсхил — это настоящий Энкелад!..[138] Мегатерий!..
Лонгоманос горделиво осмотрелся вокруг, словно петух-победитель. Сфинга попыталась было успокоить его своим взглядом и голосом.
— И все же, — глубокомысленно изрекла она, — есть личности более сильные, чем Эсхил… Рядом с нами… Совсем рядом… Не так ли, Лала?
Вопрос, заданный Лале, показался Стратису чудовищным. Лонгоманос уставился на нее, словно желая загипнотизировать:
— Что скажет незрелая Пасифая?
Лала потерла стежки на вышивках своей сумки:
— Конечно, может быть, есть личности более сильные, а мы про то и не знаем, но разве…
— «И ноги его подобны халколивану»,[139] — продекламировал сотрясающимся голосом Лонгоманос, поглаживая себе колени.
Лицо Сфинги так и озарилось благодарностью Лале.
— Но разве?… — спросила она, возвращаясь к незавершенной фразе.
— Но разве… — проговорила Лала. — Я хотела сказать: …но разве знали, что Луис выйдет победителем на марафонской дистанции?[140]
— Кто позволил тебе разговаривать, Кирка? — прогрохотал Лонгоманос.
Сфинга побледнела. Атмосфера становилась напряженной.
— Личность — это большая проблема, — заметил Стратис.
— Я знаю, — сказал Лонгоманос, пытаясь сдержаться. — Великая, могучая, прозорливая — в этом заключается все!
— Полифем, например, — сказал Стратис.
Лонгоманос вскочил со своего сидения и грозно встал перед Стратисом:
— Полифем или золотой осел — вот что тебе положено!
— В настоящий момент, — ответил Стратис, — мне кажется, что меня и вовсе нет, что я — Никто.
Услышал это Лонгоманос или не услышал, но он устремил взор ввысь и возгласил другим голосом, словно идущим из недр земных:
— Приди, Кнут! Приди, Кирка! Приди, юная Пасифая!.. Придите! Придите!.. Мой бог зовет вас!.. Мой бог повелевает!..
И, не глядя больше ни на кого, он торжественно прошествовал в соседнюю комнату. Кнут первым последовал за ним. Сфинга взяла Лалу за руку и потянула за собой. Лала поднялась, сделала два шага, но затем упрямо остановилась.