Александр Мелихов - Любовь к отеческим гробам
Требовалась проницательность почти сверхчеловеческая, чтобы догадаться, что она согласна быть патриоткой тысячи отечеств лишь при условии хотя бы легкой ответной приязни. И любить китайцев, индейцев, негров, включая англосаксов, предпочитает лучше со стороны. “Ты бы хотела выйти за иностранца?” -
“Не-ет!..” – с комическим, но все же испугом. “А за негра? Если бы он жил в России?” – “Ну, если бы ты как-нибудь оказался негром…” Отец был бы изрядно изумлен, если бы вовремя не отсек этого знания очередной заглушкой, тем огорчением, которое вызвал у Катьки “развал Союза”: это была обида отвергнутой любви.
Катька со своими ребятами выходила на все митинги за свободу
Прибалтики, но когда прибалтийские делегации обо всех наших бедах начали монотонно повторять, что это проблемы другой страны… Ну, а уж когда там начались ущемления “русскоязычных” да шествия каких-то эсэсовцев, Катька с кровью вырвала
Прибалтику из своего всемирно отзывчивого сердца, отказываясь даже съездить туда на пару дней поразвлечься: “Если уж возиться с визами, я лучше в Стокгольм съезжу. Это раньше они для нас были образцом и европеизма, и цивилизованности… А для настоящей Европы они теперь будут задворками. А грузины!..
Разрушили страну… Ну кто им мешал развивать свою культуру – мы, наоборот, гордились их черкесками, лезгинками, голошениями… Их рыцарственностью! А кто теперь их будет переводить? Кто стихи про них будет писать – „на холмах
Грузии”?..” Я припоминаю, как одна девочка из нашего класса видоизменила эти строки: на холме лежит грузин, – но Катька, игнорируя мой еврейский яд, вновь переживает свой триумфальный тост на какой-то тбилисской конференции: Грузия, дескать, входит в нашу душу вместе с русской литературой – “Я ехал на перекладных из Тифлиса”, – после этого все рыцарственные усачи были у ее ног со своими бокалами. “Бежали робкие грузины”, – цитирую я того же классика, и Катька наконец-то приходит в сокрушенное восхищение: “Вот жид!..” Она и в моей язвительности чтит национальный еврейский обычай.
Вероятно, еще и по этой причине она соглашается лицезреть любимого “дедулю” в облике босяка – уважая еврейский, как ей кажется, принцип: “если вещь еще можно носить, она должна лежать”. Менее толерантная мама иногда не выдерживала и выбрасывала какую-нибудь особенно осточертевшую рвань, но отец каждый раз буквально заболевал, ложился на диван лицом к спинке… Катька же теперь заходит с другого конца: сначала покупает новую вещь, а потом начинает пугать папу, что ее без употребления съест моль. Но для этого Катьке потребовалось установить, что еврейские заветы не так уж и непреклонно обязывают ходить оборванцем – отец имел неосторожность поведать
Катьке любимое присловье своей матери: “Что я съела, никто не видит, а что надела, все видят”. (Ее же: “Ты щеки хоть нащипай, а на люди выйди румяная”. Всплыло попутно: “Бог каждому что-нибудь дает – кому сто рублей, а кому чирей”, – кажется,
“бобце” была поживее своего супруга.)
Мы с Катькой бытовые препирательства тоже стараемся возвести в конфликт культур. “У тебя же есть новые!” – усовещивает меня
Катька, намереваясь порадовать бомжей вполне приличными еще моими штанами. “Бог дает штаны, когда у тебя уже нет задницы…”
– изображаю я старого, мудрого, уклончивого еврея. “Не будь жидом”, – пускает она в ход тяжелую артиллерию, на которую у меня тоже имеется своя “катюша”: “Руссиш швайн! Дай вам волю, вы все мировые ресурсы в помойку спустите!” Но тем не менее, уважая русские обычаи, по большим праздникам я торжественно вручаю
Катьке совершенно новую куртку или ботинки и даю великодушное дозволение их выбросить: “Гуляй!” Хотя на самом деле стремление побольше выбросить у Катьки даже и не фамильное: Бабушка Феня любым обноскам, именуемым ею странным словом “ризьзя” (“риза”?), старалась подыскать какую-то функцию – в лес ходить, чучело обряжать… Однажды она с большим чувством объясняла мне, чтбо считалось богатством в старом добром “Вуткине”. Еда? “Еттого добра до колхозов во всех хватало. Что вважали… – Она приостановилась, подобно заместителю министра, готовящемуся объявить подчиненным: будет президент! – и завершила внушительно: – Одежу!”
Наблюдая Бабушку Феню в ее мешкообразных платьях, “кохтах” и этнографических платках, лишь очень тонкий знаток соответствующей субкультуры мог бы рассмотреть, что она большая модница.
Всучить же что-нибудь модное моему отцу – да мой харьковский дед восстал бы из гроба! Зато перед лицом смерти мой отец и Катькина мать выступили вполне сходным образом, не устраивая трагедий перед ее лицом. С незамеченных пор у отца по рукам и плечам начали проступать пятнышки старческой ржавчины, и одно из них потихоньку-полегоньку проржавело насквозь, обратившись в мокнущую припухшую язвочку. Мама умащала ее всеисцеляющей мазью
Вишневского, внушающей доверие одним лишь своим дегтярно-казарменным духом; язвочка затягивалась, потом снова трескалась и отмокала, как переспелый плод, я раз в месяц советовал показаться врачу, и когда отец все же добрался до
“кожника”, тот чуть ногами не затопал: “Вы что, с Чукотки приехали?!”
Отец живал и на Чукотке, но непосредственно в Ленинград
“сменялся с приплатой” из Магнитогорска. Его отправили на иссечение в занюханную, как возведенная в государственное достоинство коммуналка, онкологическую больницу на Моховой, мимо которой я и всегда-то старался проспешить, скосив глаза в сторону. На этот же раз и номерка в темном гардеробе я коснулся с некоторой рябью по коже. Однако отец был не просто спокоен – в этом казенном осыпающемся доме, пропитанном общепитом и измывательским умиранием, среди которого невольно стараешься поменьше дышать, поменьше замечать, он был буквально безмятежен в своей добытой из самых глубоких закромов продольно-голубой пижаме, ровеснице двадцатого съезда, и уже и медсестры были с ним особенно ласковы, как почти все женщины на всех его работах
(не исключая лагерных).
Близ их поста белел рослый холодильник с плакатиком на дверце:
“Товарищи, подписывайте продукты”. “Ну, как ты устроился?” – с преувеличенной озабоченностью спросил я, чтобы спрятаться от главного. “Ты обратил внимание, рядом с моей кроватью пожилой человек читал книгу? – заговорщицки придвинулся отец; какой-то седой мужчина с простым, но не простонародным лицом действительно очень серьезно что-то читал, расположившись поверх общежитского одеяла на боку, подогнув колени. – Он с сорок восьмого по пятьдесят четвертый работал следователем!
Представляешь – и Ленинградское дело, и “дело врачей” – ты при нем поосторожней!”
Господи, и здесь, в преддверии ада – или даже в самом аду, – все о земной осторожности – это после распада Союза, полузапрета
КПСС… Но вместе с тем – что толку думать о главном, перед которым мы бессильны?.. “А что у него, у этого следователя?” -
“Что он читает? Я еще не успел…” – “Да нет, какая у него болезнь?” – “Рак челюсти. Хотят ее убрать, а он не соглашается.
Я потихоньку заводил с ним разговор про тогдашнее ленинградское руководство – осторожничает, ну, я пока и оставил. Тогда министром Государственной безопасности был…”
Между этими более серьезными делами отцу иссекли опухоль на шее, заклеили белым глянцевым пятаком, изъятым из какого-то менее парадного места, велели регулярно “показываться” – он и показывался, когда мама вспоминала, – сам же интереса не выказывал: относительно собственной персоны его могло повергнуть в панику только отсутствие в доме минимум двух буханок хлеба и трехмесячного запаса круп. Зато когда что-нибудь случалось с мамой, он метался и захлебывался, как ребенок. “Что будет, если он ее переживет!..” – потрясенно покачивала головой Катька, придерживая ее за виски. “Да хватит тебе!” – защищал я свой М-мир…
Когда на нас обрушился мамин удар, отец позвонил мне, рыдая в голос: “Она упала и не двигается!..” – “Это бывает, сделают укол, и пройдет”, – ответил я с многоопытной будничностью и бросился ловить такси. Когда я добрался до них, мама с банным лицом лежала на кровати, а отец только что руки не целовал фельдшеру из “скорой”. Еще от порога ударило запахом беды – свежей парашей: под кроватью испарялась сорок лет ждавшая своего часа плоская эмалированная тарелка, которую отец уже успел вынуть из-под мамы. Мама с перекошенным лицом приподняла свою обвисающую кистью правую руку левой и со страшным усилием выговорила: “Не чув – ству – ет…”
В больницу мы отца не допускали – не надо было лишних рыданий
(да и не хватало, чтобы еще и он свалился), – я лишь возил ему
Катькины обеды и рассказывал, что дело понемногу идет на поправку. И каждый раз у него вырывалось страшное, дикое мужское рыдание (я заранее собирался в ледяной кулак), он вскакивал, но выбежать не успевал – только оставлял за спиной какие-то беспомощные извиняющиеся жесты. Я хранил потупленную непроницаемость – иначе бы мы зарыдали дуэтом. Когда маму наконец уложили на кованую койку при тумбочке, я попытался сказать ей что-то небывало нежное, чем в единый миг переполнилась моя душа, – и лишь на самом излете перехватил вот то самое неотесанное мужское рыдание. Пришлось долго жевать мякоть указательного пальца у окна, пока не почувствовал, что могу снова обратить лицо к палате. Ближайшая ко мне миниатюрная старушка-евреечка, обтянуто-черная, как мальчик-циркач, двумя тоненькими шерстяными ручками спускавшая с кровати тоненькую ножку в траченных неизвестно чем шерстяных рейтузиках, дружелюбно сообщила мне, что ее тоже часто навещает сын – я его увижу, очень интересный мужчина (типичный юркий усатик из
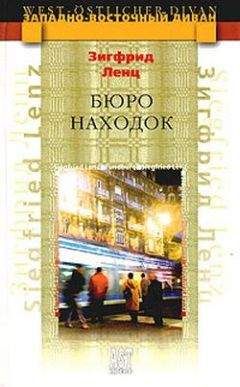

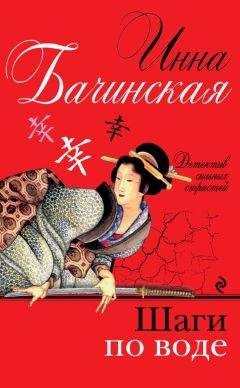

![Андрей Васильев - Снисхождение. Том первый [СИ]](/uploads/posts/books/271277/271277.jpg)