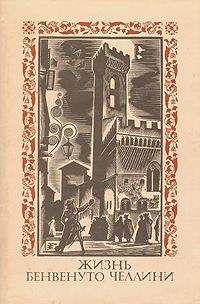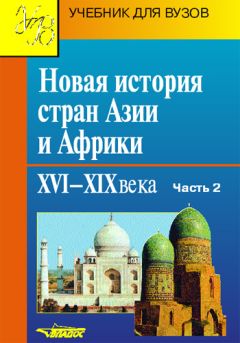Андрей Волос - Хуррамабад
Надо сказать, город Хуррамабад всегда гордился не то пятью, не то шестью большими фонтанами, однако только три из них достойны упоминания здесь.
Во-первых, это гранитные чаши перед зданием ЦК. Там солнце расцвечивает каскады дробленой воды тысячами мелких быстрых радуг, и они разлетаются, словно стая волшебных птиц, напуганных мрачной фигурой автоматчика, охраняющего вход.
Во-вторых, двадцать пять серебристых струй, которые торчат из глубоких мраморных лоханей под стрельчатыми окнами Совмина.
Однако в те годы, когда с наступлением сумерек можно было только в крайнем случае напороться на нож простого хуррамабадского хулигана, старики и влюбленные предпочитали демократическую прохладу третьего фонтана — того, что на площади перед Оперным театром.
Этот фонтан был гораздо больше первых двух. Он и должен был быть большим, потому что архитектору приходилось соразмерять его с предметами весьма значительными, — прямо за ним, если смотреть с широкого проспекта, находился холм, на вершину которого взгромоздился всеми своими колоннадами Оперный театр, справа — гостиница, а слева — большое четырехэтажное здание с гастрономом в первом этаже.
Если б не скругленные углы, облицованную гранитом чашу можно было бы назвать квадратной. Вода шумно изливалась с четырех ее сторон, время от времени гулко постреливая воздушными пузырями, а из самой середины с неудержимым свистом била главная, самая большая струя, и увидеть ее целиком можно было, только порядочно задрав голову.
Вокруг фонтана лежало кольцо аллеи, засыпанной мраморной крошкой, дальше — высокий бордюр, за которым цвели кусты жасмина и роз, по углам высились четыре старых каштана; в тени одного из них располагался книжный киоск, а на корявой коре другого было кем-то красиво вырезано имя ГУЛЯ…
Беляш пользовался только одним вентилем из шести — главным, а прочие, второстепенные, управлявшие напором отдельных струй, были им выставлены раз и навсегда и на всякий случай замотаны проволокой, чтобы, не дай бог, перепутав спьяну, не нарушить регулировку… В трех местах старые трубы слезились, но по хуррамабадской погоде это доставляло неудобство только зимой. От холода и сырости Беляш спасался с помощью ржавого промышленного электронагревателя, положенного на два кирпича (на него же, если надо было картошек сварить, ставил алюминиевую кастрюльку), а летом, напротив, было хорошо — прохладно.
Спал Беляш на красной тахте, какую поискать. И тут спасибо Камолу-фокуснику — это он однажды примчался с вестью, что буквально пять минут назад люди вытащили на дальнюю помойку возле обувного замечательную тахту и Камол уже поставил возле нее первого попавшегося пацана в качестве охраны… Беляш потом все думал — почему он себе-то ее не забрал? Живет в кишлаке за автобазой, а в кишлаке за такую ста сот бы не пожалели!.. Короче, они рванули к помойке не медля и правильно сделали — хромая Саида с Нагорной, задыхаясь и грозя клюкой перепуганному мальчишке, уже волокла ее в сторону базара…
— Хорошие вещи не залеживаются, — рассуждал Беляш, когда они несли к фонтану отбитую у бешеной старухи тахту. — Видишь, какое дело! Сему Кота помнишь? Он раз тут перчатки нашел. Стоит как дурак, рассматривает их — брать, не брать? Я глянул — ну совсем почти новые перчатки! Говорю — бери, Сема, бери! Такие перчатки, говорю, на дороге не валяются…
Они выкинули старый топчан, поставили тахту и на радостях как следует выпили. Потом Беляш раскрутил вентиль на полную катушку, и сразу к прохладе фонтана стала неспешно стекаться довольная публика… Помаргивая, Камол сидел на скамейке рядом с пьяненьким Беляшом и с застывшей улыбкой смотрел на струю. Огромная, шумная, она била в темнеющее небо, по которому зигзагами носились летучие мыши.
— Кто начальник фонтана? — бормотал Беляш. — Я начальник фонтана!.. Ладно… пусть уж… Захочу — выключу… да, Камол?.. а пока пусть, ладно…
2Трюк, которым Камол-фокусник зарабатывал на жизнь, производил неизменно сильное впечатление на торговцев виноградом, баклажанами и картошкой, которые, сбыв с рук товар, на радостях баловались водочкой в базарной чайхане и были не прочь сыграть в орлянку. Уговорившись и ударив по рукам, Камол доставал из кармана серебряный полтинник двадцать второго года и звонким пропеллером пускал над головой. Поймав его, он вскидывал кулак и, не задумываясь, говорил, как легла монета; а помедлив мгновение, осторожно, словно боясь вспугнуть удачу, раскрывал ладонь… Любой интересующийся мог убедиться в том, что он снова прав. Кое-кто из проигравших высказывал мнение, что Камол-фокусник таинственным, но недобросовестным образом умеет управлять монетой в полете, заставляя ее сделать, если нужно, лишние пол-оборота, — и это превращает честный спор в чистое жульничество.
Однажды Беляш, относившийся к его искусству с суеверным уважением, все-таки спросил у Камола, как ему это удается. «Просто знаю — и все,» - ответил Камол. Беляш спьяну не поверил. «Ну как это! Ну как это — знаешь! — горячился он. — Как это!» Камол бесстрастно пожимал плечами: «Ну знаю — и все! Как будто вижу… понимаешь? Когда подбрасываю — уже вижу. Понимаешь?»
Как ни неприятно было морочить другу голову, а все же не мог он рассказать Беляшу (что знают двое, то знают все!), что владеет одним простым приемом, которому научился в детстве у дедушки Нурали. Прием этот заключался в том, чтобы, ловя монету, зажать ее не всеми пальцами руки, а лишь указательным и безымянным, — а средним прихлопнуть мигом позже, когда уже увидел все, что надо…
— …Давай еще раз! — наступал сейчас на него ражий, налившийся недоброй кровью усатый дангаринец. Он был несказанно расстроен копеечным проигрышем, жаждал отыграться и уже вытребовал у Камола, чтобы тот бросал не заветный свой полтинник, а простой пятак. Впрочем, и с пятаком вот уже три раза подряд получилось то же самое. — Давай, говорю, крути!
— Слушай, брат! — негромко и ласково сказал Камол, которому уже хотелось от него мирно отвязаться. — Хватит, а? Ты вот мне не веришь, а я тебе как брату говорю — я всегда угадываю! Понимаешь?
— Давай! — бычился дангаринец, отчего офицерский ремень на брюхе угрожающе напрягался. — Ты меня опозорить хочешь?! Я проиграл? — проиграл! Ты почему мне отказываешь? А ну-ка держи, держи! — и совал Камолу очередную бумажку. — Давай! А не хочешь так — тогда я сейчас сам буду кидать, а тебя угадывать заставлю!
Это требование вызвало удивленно-одобрительный гул публики, которая, рассевшись за чайниками частью у столиков, частью на топчанах-катах, следила за поединком.
От дангаринца так несло водкой, что впору было закусывать.
— Ну ладно… — Камол развел руками. — Я тебе все сказал, да? — И добавил по-русски: — За подляну не прими, но я тебя предупредил…
Он осторожно, словно от этого напрямую зависел исход дела, плашмя приладил монету на указательный палец, со свистом втянул воздух сквозь гниловатые зубы — и через мгновение пятак желтой жужжащей пчелой взмыл вверх, едва не коснувшись пыльных дырявых листьев старого тутовника.
— Хоп! — сказал Камол, ловя его в кулак.
Он зажмурился и задрал лицо к солнцу. Орел!
— Вот сейчас сам увидишь, что решка, — скучно пообещал он и раскрыл ладонь.
— А-а-а-а! — завопил счастливый дангаринец, хлопая себя по коленкам. — Я же говорил! Ему просто везло! А теперь не повезло! Тоже мне — фокусы!..
Хмуро улыбаясь, Камол отдал проигранные напоследок деньги и побрел к своему столику.
— Чайник новый неси, — сказал он шустрому мальчишке, который работал у чайханщика Фируза подавальщиком. — Плов готов?
— Нет, устод… — огорченно покачал головой пацан. — Через час, не раньше. Устод, а вы еще будете фокусы показывать?
— Э! Что такое! Лучше конфет давай, — не всерьез рассердился Камол. — Парварду давай, нават давай!
И небрежно бросил на стол одну из выигранных бумажек.
Мальчишка бегом притащил заказанное — поставил чайник, свежую пиалу, тарелочку со сладостями, — и высыпал на стол сдачу, из которой Камол, успокоительно кивнув, небрежно придвинул ему ровно половину, принеся тем самым необходимую жертву, гарантирующую продление удачи.
— Спасибо, устод! — весело сказал мальчик. — А вы меня научите монету кидать?
Камол отмахнулся. Мальчишка подхватил грязную пиалу и исчез, оставив вместо себя небольшой вихрь потревоженного воздуха.
3Было тепло, солнце грело серый асфальт и сверкало в лужах, где барахтались воробьи. Камол-фокусник щурился, посасывая мучнистый сладкий камушек парварды. Он выглядел вполне довольным. Даже глубокие морщины по бокам крючковатого носа, казавшиеся на его смуглом скуластом лице черными прорезями, немного разгладились.
Покачивая в руке щербатую пиалу, Камол заинтересованно присматривался к двум корейцам, забежавшим в чайхану перекусить на скорую руку. Должно быть, это были торговцы луком или арбузами. Он слышал, что корейцы чрезвычайно азартны в игре, легко увлекаются и входят в раж; рассказывали также, что есть у них специальные заведения — только для своих, где играют по-крупному, безжалостно просаживая или приобретая за ночь баснословные суммы. Для его мелкого дела это тоже было важно, поскольку от степени увлеченности клиента зависело, как долго его можно обыгрывать, не рискуя нарваться на скандал. Впрочем, лукоторговцам, похоже, было не до развлечений: обжигаясь и хлюпая, они торопливо смели по двойной порции лагмана, расплатились, подхватили сумки и покинули заведение.