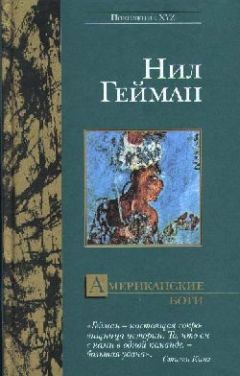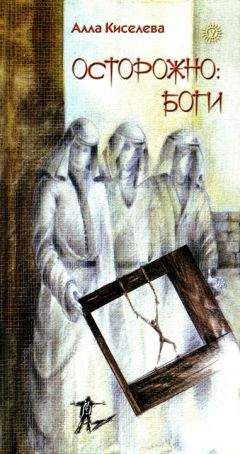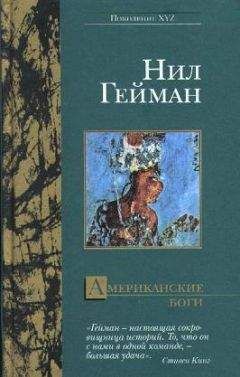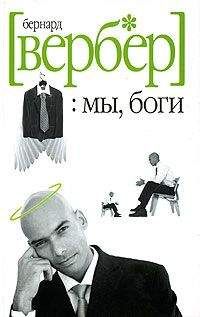Петр Проскурин - Судьба
— Сбесился, — бросил он Николаю на ходу; тот, судорожно сжимая карабин в потной ладони, только засопел, ему уже было стыдно, и когда потянулись, холодно сверкая, тихие озера, он и сам хотел предложить Егору стрелять первым, но не смог пересилить себя. Уже через несколько минут они оба забыли об этой мимолетной стычке; уток было действительно много, и, пользуясь прикрытием из густых кустов и прошлогоднего сухого камыша, к ним можно было подбираться совсем близко. До этого в Соловьином логу Николай много и часто стрелял по разным бутылкам, банкам, а то и просто в кусок доски (братья Дерюгины, как и многие другие их сверстники из Густищ, да и ребята постарше, облюбовали Соловьиный лог и уходили туда по своим рискованным делам от вездесущих материнских глаз), но теперь, когда они, подобравшись к одному из озер, увидели сквозь густо разросшийся ивняк целую стайку, штук восемь, крупных красивых уток, и почти у самого берега, у Николая перехватило дух, и он судорожно дернул головой, мучительно краснея от усилия удержать внезапный кашель, и сильно побледнел; рядом отчаянно, еле слышно зашипел Егор с умоляющими глазами, а затем показал кулак; Николай с красным возбужденным лицом нашел удобную старую ветку ивы, положил в ее изгиб ствол карабина и, стараясь не дышать, стал целиться. Он видел плавающих шагах в десяти уток, словно в тумане, и медлил, все водил вслед за ними стволом карабина, пережидая слабость и туман в голове.
«Стреляй!» — не выдержав, прошипел сзади Егор, и Николай скорее угадал, чем услышал, его слова; от мысли, что он не попадет, а Егорка зло попотешится над ним, Николай совсем раскис и хотел отдать карабин брату, но в последний момент что-то жестокое и властное проступило в его резко побелевшем лице, брови, казалось, потемнели, рот судорожно сжался. Он задержал дыхание, решив скорее умереть, чем поддаться слабости, в груди остро кольнуло, и перед глазами прояснилось, и он опять увидел уток — маленькие, блестящие, как черные капли, глаза, загнутые, закрученные перья на хвосте у селезня, серенькие и с зеленью перья на шее — и, взяв в самую середку стайки, решился. Выстрел ударил неожиданно громко, у Егора зазвенело в ушах и пересохло в горле, но он ясно услышал отчаянное хлопанье поднимавшихся уток, крик Николая.
— Попал! Попал! Попал! — визжал Николай, бросив карабин и показывая на две неподвижных, торчавших из воды брюшками и красными лапками тушки; третья утка, подранок, боком, дергая головой, отплывала от берега, судорожно хлопая крылом по воде; стуча зубами от неожиданной радости, Егор рвал с себя одежку и бросал рядом: до уток было метров семь, и их никак нельзя было достать с берега.
— Третью, третью добивай! — кричал Егор, путаясь в тине. — Уйдет, черт, ай ты оглох? Бей!
Николай быстро передернул затвор и, увереннее прицеливаясь в беспорядочно удалявшуюся от берега птицу, выстрелил; он видел, как утка вскинулась вверх, словно стремясь улететь, и через несколько секунд неподвижно застыла на воде с поднятыми верх лапками; это был большой матерый селезень. Обалдевший от такой удачи Николай не заметил, когда Егор разделся и вошел в воду; он увидел его уже плывущим, с застывшими от холода и напряжения глазами. Двух уток, убитых вначале, Егор доволок до берега сразу, кинул их с мелкого места в сухой камыш, к Николаю в ноги и, синий от пронзительной весенней воды, поплыл за селезнем, изо всех сил работая руками и ногами; Николай криком подбадривал его. Через минуту выбравшись на берег, Егор, дрожа всем телом, стуча зубами, вытерся своей же рубахой, кое-как натянул на себя штаны и фуфайку, сунул ноги в сапоги и стал бегать, тяжело топая, от дерева к дереву, подпрыгивая, пытаясь ухватиться за нижние сучья. Николай бегал за ним и отчаянно вопил от восторга и счастья; нечто дикое и детское захватило их; так было не раз еще до войны, когда на братьев накатывала какая-то неудержимая, но тогда беспричинная веселость, и они носились друг за другом, ничего не видя и не замечая от томительной, могучей, неудержимой полноты жизни, бушевавшей в них и искавшей выхода. Николай не выдержал первым, свалился рядом с убитыми утками и задергал в воздухе ногами; деревья в вершинах стремительно рвались куда-то мимо, мимо, он даже услышал свист несущегося неба. Согревшись и обессилев от бега, подошел Егор, с жадно раздувшимися от запаха свежей крови ноздрями.
— Три! Сразу три! — закричал Николай, глядя на него снизу блестящими глазами.
— Ты и вправду везучий! — падая рядом с ним, задыхаясь, признался Егор и стал одеваться наново, теперь уже можно было не торопиться, навернуть портянки как следует, да и натянуть на себя подштанники.
— Холодная вода, Егорка?
— Страсть! — зажмурился Егор и завертел головой. — Так под жабры и стиснуло, дых захватило, думал, помру. А счас ништо, для сугреву самое первое — побегать до задышки. Молодец ты, Колька, как саданул! — похвалил он брата. — Давай, я утиц подберу, пойдем, знаю я тут водицу в одном месте, неподалеку. Ладно, стреляй еще, там такая колдобина, если попадешь, и палкой подлиньше выловим.
Достав из кармана тонкую веревочку, Егор связал уток вместе за холодные лапки, приладил их за спину, и они отправились дальше, переходя от одного лесного озерка к другому; дичину в этих местах в годы войны никто не пугал, и теперь братьям везло; они подстрелили еще толстую усадистую крякву, двух вертких чирков, а затем Егор срезал дуплянку; она камнем свалилась в старый камыш, и ее долго пришлось искать. Когда Егор с Николаем выбрались на сухое место, солнце давно свернуло с полдня; Николай опустился на землю, толсто устланную прошлогодней листвой, первое возбуждение от удачи прошло, и он совершенно обессилел. Егор присел рядом с ним, любуясь добычей, он представил себе, как обрадуются мать и бабка Авдотья, и от этого слабый румянец проступил у него в лице, но, заметив вымученный белый лоб Николая (тот лежал навзничь, прикрыв глаза ладонью), Егор тяжело поднялся, взял карабин.
— Коль, ты вот что, — сказал он, — ты отдохни, собери сучьев посуше. С елок снизу наломай. А я тут схожу недалеко, гляну, уж такое утиное место, страсть! А вернусь — утку сжарим, съедим.
Николай отвел руку с лица; в глазах мутилось, и он с трудом видел какую-то неясную плывущую тень перед собою, Егора он не видел. Испугавшись, он не стал останавливать брата, такое с ним случалось и раньше, и не раз в последнее время.
— Иди, — сказал он, — полежу, сучьев наломаю. Голова плывет, глазам прямо больно.
— Это с голодухи, — уверенно сказал Егор и пошел; Николай понял это по шороху листьев под его ногами и тотчас стал думать о том, как Егорка еще убьет утку, а то и две, затем вернется, и они в самом деле поедят жареного мяса. Он боялся думать, что Егорка уходит, и он остается один, и что он почти не видит, даже дерева причудливо расползаются, кривятся в стволах; он не знал, как они смогут испечь утку, в таких делах главою всегда бывал Егорка, и Николай верил ему; он стиснул зубы и остался лежать. Скоро он услышал выстрел, затем второй и обрадовался; он твердо был уверен, что у Егорки новая удача, и, пересилив слабость, сел, бессильно мотая головой. Понемногу в глазах прояснялось, и он, пошатываясь, пошел обламывать сухие сучья у елок; руки были словно тряпочные, и он удивился, как это полчаса подряд он мог удерживать карабин, да еще и стрелять из него. Чтобы отломить ветку чуть толще его высохшей руки, ему приходилось виснуть на ней всем телом; но он был рад, что с глазами у него прошло, и к возвращению Егора он запас дров достаточно. Он услышал Егора еще издали, тот выскочил из-за деревьев, заорал, тряся убитыми утками над головой.