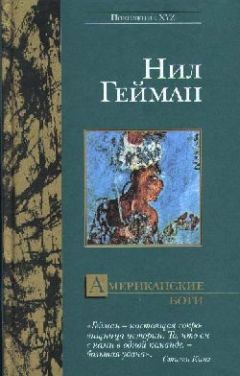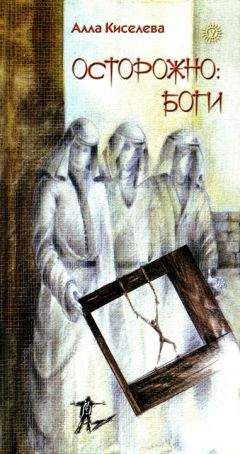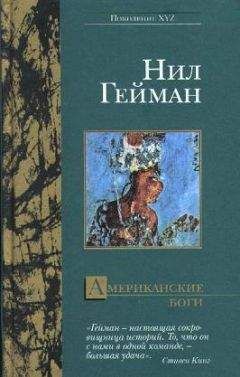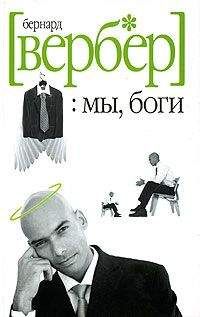Петр Проскурин - Судьба
— Эх ты, эх ты, Егорка! — заговорил он быстро и возбужденно. — Эх ты! Давай патроны вместо пуль дробью набьем помельче! Пули вытащим, а дробь туда, тряпочкой заткнуть, да и туда! Вот тебе!
Егор недоверчиво покачал головой.
— А как винтовку рванет?
— Не рванет, мелко-мелко рубить будем! Хочешь, я сам первый ударю, и всегда могу стрелять, а? Не боюсь, ей-богу, не боюсь!
На следующий день они вынули из тридцати патронов пули, отсыпали понемногу пороху и набили их мелко рубленной проволокой; дробь, по настоянию Николая, примеривали, не велика ли, просыпая через ствол карабина. Приготовив все еще с вечера, они ушли к болотам на заре; Егор мог подсмеиваться беззлобно над хилостью и слабостью брата, но он давно уже знал и чувствовал, что Николай намного способнее его в ученье или в таких вот делах, как это, — с дробью. Ни бабка Авдотья, ни мать не знали о карабине, о запасе патронов к нему, хватившем бы лет на двадцать при самом интенсивном его использовании, да и о других трофейных секретах братьев. У них был в саду устроен свой тайник, и они хотя и неосознанно, но всегда верно использовали инстинктивный страх матери и бабки Авдотьи перед всякими непонятными вещами, связанными с войной и смертью; ни Ефросинья, ни бабка Авдотья ни за что бы не решились взять в руки хотя бы отработанную патронную гильзу.
Из-за слабости Николая до Слепненских болот (так называли в окрестностях многочисленные лесные озера в Слепненских лесах, в разливе каждую весну затоплявшие огромные пространства) братья долго, часа три, шли полями, уже два года не обрабатываемыми и еще не совсем просохшими. Егор нес карабин, Николай двигался следом и уже начинал жалеть, что пошел, ноги подламывались в коленках, в суставах иногда вспыхивала острая боль. Тяжелые немецкие сапоги обрастали пластами грязи, и ее то и дело приходилось очищать, Николай шел теперь из-за одного упрямства, хотя Егор несколько раз, приостанавливаясь, предлагал ему вернуться; они с трудом пробирались друг за другом по бурьянам и через овраги, по хорошо знакомой Егору дороге. Николаю было трудно, и хотя он знал, что Егорка, который что-то насвистывал на ходу, здесь ни при чем, часто глядел в затылок брату с тяжелой недетской обидой. Что ж, я виноват, если есть нечего, силы потому и нету, думал он, сосредоточенный только на своем желании не отстать от брата и не показать ему своей крайней слабости. Хорошо бы сегодня добыть какую-нибудь утку, а то ведь не помнишь и запаха мясного, вот бы мать и бабка обрадовались. Где-то продолжается большая война с самолетами и танками, Аленка с Иваном где-то пропали и батя, а здесь война уже кончилась, даже не слышно, как гремит. Только всюду битые танки остались, мин, снарядов, сколько хочешь, в Осиновых хуторах уже второй раз на минах подрываются, говорят, большие ребята в лесу пулемет с противотанковой пушкой припрятали, ходят туда стрелять. Вот бы самолет целый где найти, научиться летать да куда-нибудь в богатое место и сесть. Нагрузить самолет колбасой, булками белыми (что такое колбаса и белые булки, Николай представлял довольно смутно, как нечто необычайно вкусное и дорогое), а затем и назад домой, сесть на огороде возле землянки. Вот бы все сбежались, и старые и малые! В каждые бы руки по кругу колбасы и по булке. Вот это, говорили бы, Колька Дерюгин, мал, да удал, смотри-ка, и самолет нашел, и справился. Чудо! А бабка Авдотья больше бы всех радовалась, ее заботами и лаской все у них в семье и выросли, и держатся. И батя бы вернулся домой, похвалил; хотя за постоянным голодом он и вспоминается редко, а хочется его увидеть, вот так иногда оборвется, захолодеет от этого ожидания в груди.
Мысли у Николая путаные, ребяческое в них мешается с ясной, зрелой тоской, но они помогают ему идти, и ноги устают меньше, и в голове становится яснее. А поля все так же тянутся по сторонам, и солнце поднимается выше, пригревает уже по-настоящему. Каким-то иным, новым светом озаряются холмы и лощины, над провалами заполненных водой оврагов чувствуется какая-то сумрачность, но весну уже ничем не перешибить; изумрудная зелень рвется и светит сквозь прошлогоднюю бурую травку, на пути, иногда совсем из-под ног, взлетают и зависают в небе хохлатые, чистоголосые жаворонки; Николая в который раз поражает не песня жаворонка, а его способность подниматься отвесно вверх и висеть в одной точке над землею; Николай понемногу забывает об усталости и голоде и уже поспевает за Егором без особых усилий и только досадует на топкие места. Их то и дело приходится обходить, и их много. Николай подумал, что места с утками можно было найти и поближе, но говорить этого Егору не стал; все равно теперь нужно было идти; уже и лес надвигался все ближе; какие-то голубоватые цветки встречались под ногами; да и стрелять близ села нельзя, в сельсовете услышат, могут и поймать, и тогда карабина больше не увидишь.
В лесу кое-где еще не растаял грязный, ноздристый снег, похожий больше на крупную серую соль в больших кучах; в лесу сразу же по голым высоким вершинам почувствовался ветер, и легкий гул еще больше приободрил братьев. Они минут пять посидели на сухой опушке; Николай повернул лицо к солнцу; сквозь плотно сжатые веки рвался сияющий золотой поток с сизой блестящей рябью, и от него вскоре заломило в голове. Отвернувшись, Николай первое время ничего не видел, затем его внимание привлек старый большой пень, густо усеянный муравьями; очевидно, они выбрали его для жилья и начали строительные работы; на пне, на самой середине, уже возвышалась остроконечной шапкой куча нанесенного муравьями лесного сора.
— Еще версты две, — сказал Егор, выдергивая из земли пробрызнувшие кое-где острыми зелеными иглами ростки дикого лука и отправляя их в рот. — Сегодня нам должно повезти, вот так сердце и гудёт, гудёт, гудёт, как барабан.
Николай ничего не сказал, серые глаза его диковато блеснули; он долго вздохнул.
— Чур, я первый стрельну! — потребовал он, и Егор не стал спорить; Николай хорошо стрелял, гильзы набить дробью придумал он, пусть первым и ударит.
Этот ветреный и солнечный день братьям запомнился надолго, и особенно Николаю; уже собираясь идти дальше, Егор вдруг заявил, что все-таки он уже не раз стрелял и знает здесь каждую кочку и ему скорее всего повезет. Егор рассуждал в соответствии со своим медлительным и спокойным характером, степенно и веско, и оттого, что в его рассуждениях чувствовалась сила и правота, Николай, впервые за всю свою недолгую жизнь, почувствовал к брату какую-то слепую, горячую ненависть, у него даже глазам от нее горячо стало. Он не знал, как это получилось, но он схватил лежавший на земле карабин и стал кричать что-то невразумительное. Из его крика Егор только и понял, что он сам хочет стрелять, что он не хуже его, Егора, и что никакой он не больной, а здоровее всех, и пусть лучше никто к нему не суется. Егор сначала хотел отнять у него карабин, он был сильнее и знал это, но чувство злобы, звучавшее в словах Николая, горело и в его сузившихся, резких глазах; оно словно оттолкнуло Егора назад, и он, растерянно и удивленно потоптавшись, повернулся и зашагал дальше.