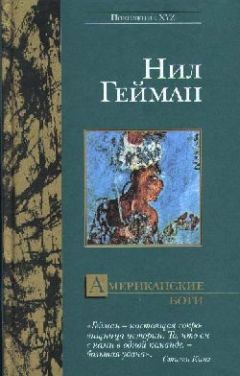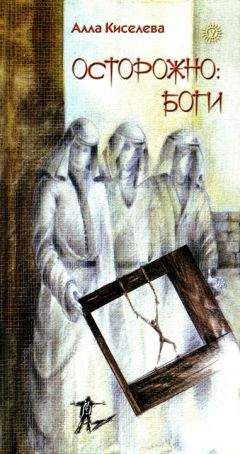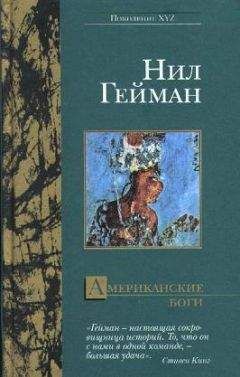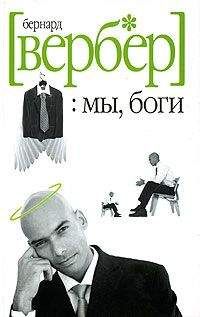Петр Проскурин - Судьба
Бабка Авдотья не разрешила Ефросинье трогать отложенные на корову деньги, говорила, что скоро пойдет щавелек и крапива, можно будет собирать да варить щи; и куры вот-вот начнут по яичку нести, а там, гляди, и власть подкинет чуток, говорят же, к посевной дадут фунтов по десять муки на едока; Ефросинья слушала и верила, очень уж ей не хотелось трогать заветные деньги, хотя на бабку Авдотью жутко было взглянуть, жердиной высохла, и словно кора от нее давно отстала и осыпалась, даже в ходьбе ничего не было слышно, она как-то и по земле невесомо ступала, а лицом стала с небольшой кулачок.
В эту весну шло неимоверно много воды; с ревом заполняя лога и овраги, она рвалась широким валом в низины и все прибывала и прибывала. Проглянули верхушки холмов, дня на три пал густой молочный туман, и никто не заметил появления грачей, теперь непрестанно, с зари до зари, оравших, обживающих старые березы и дубы на одной из околиц Густищ. Туман в одно утро рассеялся, и ударило солнце, и все увидели черные поля с редкими нестаявшими кое-где пятнами снега; чистейшей прозрачности воздух к полудню задрожал, нагретый над полями, звон жаворонков затопил и землю и небо. Ослабевшие за зиму старики и дети выползали из землянок, часами блаженно жмурились на солнце, неосознанно вбирая в себя его живительную силу, а ребята постарше, примерно в возрасте Егора и Николая Дерюгиных, тотчас стали шнырять по тем местам, где в прошлом году пролегала немецкая передовая, — в надежде отыскать нечто нужное для хозяйства и жизни, и удержать от этого нельзя было никакой силой, хотя кругом только и говорили о несчастных случаях, об искалеченных неумелым обращением с боеприпасами, о разорванных минами, о том, что в Слепненских лесах скрывается какая то банда из бывших местных полицаев и что по ночам они грабят, забирают у людей последнее.
Несмотря на канаву, которой Ефросинья еще с осени окопала землянку, вода стала подходить из-под пола, и ее приходилось по два, по три раза в день отливать; стоило чуть-чуть пропустить, вода проступала на доски. Мелкая картошка на семя, хранимая Ефросиньей пуще собственного глаза, начинала прорастать в тепле; бабка Авдотья охала и беспокоилась от этого; о себе она никому ничего не говорила, да о себе она вовек и не думала отдельно — сначала от отца с матерью, затем от мужа и детей, а теперь от внуков; она всегда была незаметным и важным центром большой семьи, совершенно об этом и не подозревая, как не подозревали об этом и другие; она обо всех заботилась, все видела и знала по хозяйству, и почти из ничего умела что-то сделать, всех накормить. В прошлые далекие годы, еще при царе, когда приходилось очень туго, она запрягала в телегу коня, кидала в нее детей, крестилась и отправлялась по миру, ехали туда, где, по слухам, стояли богатые села, нетронутые недородом и голодом; и хотя много ей не доставалось, она умела поплакаться и разжалобить, и два-три весенних, самых тяжких, месяца всегда могла протянуть. Все на веку перепробовала бабка Авдотья — и нищету и достаток. Какие же хлебы, бывало, пекла она перед самой войной — пышные, золотистые, а пироги-то, пироги какие, и с вишней, и с рябиной, и с печенкой, а то и с рыбой... Даже не верится, что было все это. Теперь же все кругом были в одинаковом положении, в эту тяжелую зиму бабка Авдотья, и не ведая о том, опрокинула и посрамила все законы экономики, да и биологии заодно; тем количеством плохих продуктов, каким она кормила четырех человек, нельзя было накормить и ребенка, но бабка Авдотья кормила именно четырех, надо считать, взрослых людей, да еще у нее обязательно хранился какой нибудь кусочек на самый крайний случай; закачается, например, внук Колька от черноты в глазах, обопрется о стену, она тут как тут, сует ему в руки корочку, засохший огрызок сухаря. «Пососи, пососи, болезный, горюшко ты мое золотое!»
Никто никогда не видел, чтобы бабка Авдотья усаживалась за стол, на ходу поводит во рту языком, подержится за зубы и, сморщившись, хлопочет по дому, сухая, прямая, с маленьким лицом, но вот в эту зиму, ближе к весне, Ефросинья однажды глянула на нее и выпрямилась от какого-то нового, захватившего дух своей неясностью и силой чувства: глаза у бабки Авдотьи словно зацвели неистовым голубым полымем. Ефросинью до смерти испугали эти молодые, в странной трепетной красе глаза, и от тяжелого предчувствия тягуче заныло изработанное тело.
— Мам, а мам, — позвала она бабку Авдотью, и та, словно вернувшись, издали, с недоумением и даже злобой глянула на нее, ничего не сказала.
— Мам, давай от коровьих-то денег истратим чуток, — осмелилась напомнить Ефросинья, встревоженная непривычным видом бабки Авдотьи. — Не умирать же теперь... сразу не получится, как нибудь потом осилим. Ох, ох, деньги, — сказала она фальшивым голосом, — тошно от них, корова то еще когда будет, а от голоду того и гляди подохнем.
— Что удумала, что! — слабым и угрожающим голосом закричала на нее бабка Авдотья. — Эка голохлыстка, своего ума не припасла, займи у кого. Зиму пробедовали, а в теплынь криком кричать? Да кто тебя похвалит за это? Во-о, дуроломка, скажут, была голытьба и до веку останется! Ты на меня не пужайся, я — стяжливая, меня кормить нечего, не такое перебедую. Вчера вон вндала, крапивка, щавелек проклюнулся, дня через три щипать можно. Ты, Фрось, не дури, у человека кишка бездонная, чго ни заробишь, все наскрость проскочит. Ништо, потерпим.
После такой отповеди со стороны бабки Авдотьи Ефросинья, в душе обрадованная, не заикалась больше о коровьих деньгах; в самом деле, скоро пошла всякая зелень, по селу из края в край варили крапивные да щавельные борщи, которые для вкуса забалтывались щепотью отрубей, еще реже — яйцом, бабка Авдотья, отварив крапиву и дергая маленьким носом от скоро надоевшего пресного запаха, откидывала ее в решете, подсушивала на огне, затем, обваляв в отрубях, пекла оладьи; от них и саму бабку Авдотью и Николая рвало зеленью, а Ефросинья с Егором — ничего, ели; пошел и дикий лук, баранчики; Егор, прихватив из своего тайника карабин и сотни две патронов, тайком уходил на лесные болота, километров за десять-пятнадцать, и там, в глуши, дрожа от возбуждения и нетерпения, подкрадывался к воде, к табункам уток, но он не умел стрелять, все его усилия добыть какую-нибудь живность пропадали даром. С неделю он уходил тайком от Николая, совершенно ослабевшего; и хотя по вечерам, когда Егор возвращался мокрый, злой, с зеленовато мерцающими от голода глазами, Николай всякий раз начинал ругаться с ним, Егор указывал, что карабин у них один и мучиться в болотах обоим нечего, лучше уж один научится хорошо стрелять, может, когда и повезет на селезня или еще какую живность. Но как-то, когда Егор, с трудом удерживая от досады слезы, рассказал об очередной неудаче, о том, как прямо в десяти шагах от него плавало шесть здоровенных уток, а он все равно не попал, Николай, обомлело сидевший с ним рядом, уже не обращая внимания на привычную сосущую легкость в желудке, на слабость в ногах и руках, внезапно растянул толстые бледные губы в улыбку.