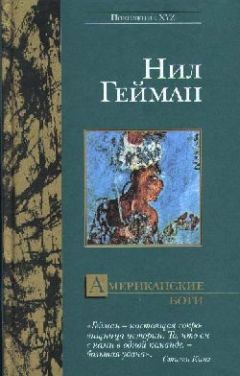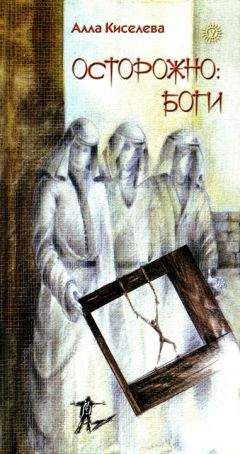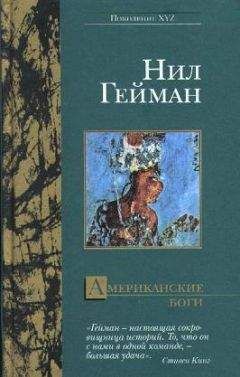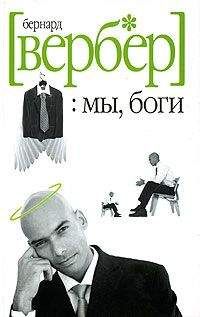Петр Проскурин - Судьба
— Коль, ты вот что, — сказал он, — ты отдохни, собери сучьев посуше. С елок снизу наломай. А я тут схожу недалеко, гляну, уж такое утиное место, страсть! А вернусь — утку сжарим, съедим.
Николай отвел руку с лица; в глазах мутилось, и он с трудом видел какую-то неясную плывущую тень перед собою, Егора он не видел. Испугавшись, он не стал останавливать брата, такое с ним случалось и раньше, и не раз в последнее время.
— Иди, — сказал он, — полежу, сучьев наломаю. Голова плывет, глазам прямо больно.
— Это с голодухи, — уверенно сказал Егор и пошел; Николай понял это по шороху листьев под его ногами и тотчас стал думать о том, как Егорка еще убьет утку, а то и две, затем вернется, и они в самом деле поедят жареного мяса. Он боялся думать, что Егорка уходит, и он остается один, и что он почти не видит, даже дерева причудливо расползаются, кривятся в стволах; он не знал, как они смогут испечь утку, в таких делах главою всегда бывал Егорка, и Николай верил ему; он стиснул зубы и остался лежать. Скоро он услышал выстрел, затем второй и обрадовался; он твердо был уверен, что у Егорки новая удача, и, пересилив слабость, сел, бессильно мотая головой. Понемногу в глазах прояснялось, и он, пошатываясь, пошел обламывать сухие сучья у елок; руки были словно тряпочные, и он удивился, как это полчаса подряд он мог удерживать карабин, да еще и стрелять из него. Чтобы отломить ветку чуть толще его высохшей руки, ему приходилось виснуть на ней всем телом; но он был рад, что с глазами у него прошло, и к возвращению Егора он запас дров достаточно. Он услышал Егора еще издали, тот выскочил из-за деревьев, заорал, тряся убитыми утками над головой.
— Еще три! — вопил он, подскакивая. — Три таких кряквы! Тяжеленные, как кирпичи. Там их видимо-невидимо, страсть! Да я больше не могу, ноги вихляются, один селезень так и остался в воде, чую, сил не хватит, утоп бы. Ох, жрать хочется, страсть!
Он бросил добытых уток в общую кучу, опустился па колени возле собранного Николаем топлива, сказал Николаю надрать бересты потоньше, а сам стал ладить огонек из сухой травы, из сосновой шуршащей прозрачной коры, затем из сухих тонких веточек. Николай принес бересты, Егорка и ее пристроил в приготовленный костерик, достал из кармана мешочек с кремнем и кресалом, трут, вываренный в порохе, и через минуту в его ловких руках тлел слабый огонек; щекоча ноздри, вкусно запахло дымом. Выпятив губы, Егор осторожно дул на огонек, затем поднес к нему белую полоску бересты, и почти тотчас на ней затлел крохотный, как искорка, огонек. Егор затаил дыхание, дождался, пока огонек прополз по бересте, набирая силу, и осторожно поднес его к заготовленному топливу. Скоро на небольшой полянке, на берегу лесного холодного озера, трещал веселый огонь. Егор, поручив следить за ним Николаю, взял одну из уток, приладил ее на длинную рогульку, стал опаливать над костром, и когда она вся осмалилась и словно бы покрылась темным расплавленным панцирем из растопившихся перьев, он поскреб ее карманным ножом и опять стал опаливать, затем побежал к озеру мыть. Пахло мясом, самым настоящим мясом, и от этого запаха у Николая что-то больно дергалось в желудке; чтобы забыться, он опять ушел ломать сухие сучья про запас, а когда вернулся, Егор уже выпотрошил утку и, разрезав на куски, нанизав их на длинную, гладко выструганную палку, держал над костром; потроха он сложил в стороне, на виду, чтобы потом не забыть забрать. Жир с мяса падал крупными каплями в костер и тотчас с шипением вспыхивал и сгорал; Николай бросил сучья на землю у костра и отвернулся; ему не хотелось показывать своей слабости перед братом.
— Соли у нас маловато, всего щепоть, — с сожалением сказал Егор, блаженно щурясь от огня; тело только сейчас отходило от ледяной воды.
— У тебя есть соль? — удивленно и недоверчиво спросил Николай, собирая на большом выпуклом лбу складки.
— Я еще утром об этом подумал, — сказал Егор, движением лица указывая на костер, и, заражаясь от Николая голодным нетерпением, судорожно глотнул воздух. — Ну уж ладно, сегодня будет у нас велик день. Немного ждать, гляди, ткнешь ножиком, сукровица идет, еще не прожарилась. Вот я ее скоро на две половины разложу, уж нажремся! Ну ладно, кажется, и готово, — сказал он, отведя палку с куском мяса от огня. — А то ужарится, и есть будет нечего. Давай вот, Коль, собери дубовых листьев поболе, на них и делить будем.
Пока Егор складывал куски на две части, Николай старался не глядеть в его сторону и на мясо и, хотя гнал эти мысли от себя, все время думал, что Егор положит себе побольше. Егор рассыпал соль из тряпицы на два прошлогодних дубовых листа и осторожно положил их рядом с мясом.
— Ну, а теперь я отвернусь, а ты спрашивай, кому, — сказал Егор и, зажмурившись, сидя, крутанулся назад.
Николай, часто и беспомощно моргая от прежних своих нехороших мыслей о брате, положил руку рядом с порцией мяса.
— Кому? — спросил он хрипло, уже не в силах владеть собой.
— Тебе, — весело отозвался Егор, и они тотчас стали есть, Николай, жадно пережевывая вместе с мясом и кости, а Егор с некоторой осторожностью, словно вначале пробуя и оценивая, вкусна ли получилась стряпня.
— Соль, соль забыл, — напомнил он Николаю, — гляди, он дичины без соли может живот схватить. По крупинке в рот бросай, ох, скусно, черт дери!
Николай не ответил, да и не мог ответить, но когда от утки ничего не осталось, чувство голода лишь усилилось; Николай поднял с земли чисто обглоданную косточку и стал ее сосать.
— Дураки мы с тобой, — огорчился Егор, — надо было котелок захватить. Эх, я, остолоп! Утку бы сварили, взвар бы мясной... Ладно, пошли, хоть с берега попьем.
Братья спустились к воде и напились, и оба скоро почувствовали, как начинают слипаться глаза, сытная, непривычная пища их совершенно обессилила, и они еще долго сидели у затухающего костра, огрузневшие, молчаливые, скованные теплой дремотой.
6
За постоянной немеренной крестьянской работой с зари до зари, в заботе о куске хлеба для ребят Ефросинья не замечала, как летит время; Егор с Николаем росли на свободе, как растет дикое дерево. Бабка Авдотья тоже мало что могла дать внукам в это трудное время бесхлебья, хотя ее хлопотливая забота и ворчливая старушечья любовь к ним были великим, неоценимым благом; для бабки Авдотьи ее внуки были лучше всех на свете, и она никогда не задумывалась, почему это так; просто так должно было быть по порядку жизни, и так оно для нее и было. И утки, удачливо добытые братьями на Слепненских озерах, лишь явились подтверждением того, что ее внуки самые ловкие и удачливые из всех ей известных кругом детей (правда, она тайно никому не показывая, испытывала большую симпатию и к поливановскому Илюше, но в этом опять-таки говорил голос крови).